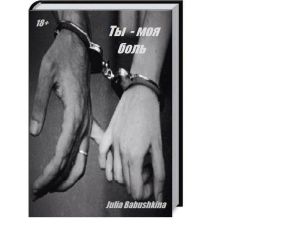Вульф (ЛП) - Хоуп Пейсли
— Мой отец умер, когда мне было восемнадцать, я только что уехала в колледж. Он пошел на работу тем утром — он был адвокатом, — рассказывает она мне. — Хотя ты, наверное, знаешь об этом.
Я качаю головой.
— Никогда не заходил дальше их имен и того, что их больше нет в живых, — честно признаюсь я. — Как только я выяснил, что они мертвы, у меня не было причин продолжать копать.
Она кивает и тянется вперед, чтобы взять бутылку.
— В этом есть смысл, — говорит она.
Я решаю немного поиграть с ней, чтобы снова увидеть искру в ее глазах. Я крепко сжимаю бутылку и не отдаю несколько секунд. В ее взгляде появляется решимость, которой я так жажду, и я позволяю ей взять ее в качестве награды.
— У него была вторая встреча за день, и он просто умер. Сильный сердечный приступ. Ему было всего сорок восемь лет, — говорит она. — Я не видела его месяц и, как ни странно, не знала его по-настоящему, хотя провела с ним всю жизнь. Моя мать умерла два года назад после непродолжительной борьбы с раком.
Я слушаю, как она говорит, потому что хочу запомнить каждое выражение ее лица. Как свет отражается от ее шелковистой кожи, как завиваются ее волосы, когда высыхают. Ее губы двигаются, когда она говорит, — каждая ее черта совершенна.
— Он всегда хотел, чтобы я стала тем, кем он не смог стать в детстве. Он отправлял меня учиться в лучшие школы, я пела с группой прославления в нашей церкви. — Она усмехается: — Там я и встретила Лей.
Я забираю у нее бутылку и делаю еще один большой глоток.
— А теперь посмотри на себя, ты здесь, со мной, а она замужем за моим силовиком.
— Но к чему привела благополучная жизнь моих родителей? — спрашивает Бринли, забирая у меня бутылку. — Оба умерли, не дожив до пятидесяти пяти лет? Скучный брак. Я не видела между ними ни одного момента нежности или любви. У них были званые обеды, школьные мероприятия и социальный статус. Их загородный клуб, церковная жизнь. У них было все это, — она обводит рукой величественную комнату, — но у них не было ничего. Я не знала их, а они не знали меня. Они думали, что знают, какая я, и наоборот, но я узнала о них больше, перебирая их вещи, когда они умерли, чем при их жизни, — говорит она, передавая мне бутылку.
Я протягиваю руку, чтобы взять ее, но вместо бутылки хватаю ее руку и тяну к себе на колени. Я провожу рукой по ее бедру, и мой член тут же реагирует. Я смотрю на нее, борясь с желанием привязаться, потому что знаю, куда может привести ее моя клубная жизнь.
Я всегда слышал о мгновенной связи, о немедленном, безусловном влечении к кому-то. Чертов Акс постоянно говорит об этом. Но я никогда не думал, что испытаю это на себе.
Я делаю глоток, а Бринли проводит пальцем по моей обнаженной груди, вглядываясь в чернила. Тексты песен и цитаты смешаны с виноградными лозами и эмблемой клуба, жнецом в цепях, цифрами и фразами, которые напоминают мне о времени, проведенном за границей, о моей матери, о погибших мужчинах, которых я знал. Это эклектичная смесь. Когда ты покрываешь большую часть кожи, у тебя есть простор для творчества.
— Это пулевые отверстия? — спрашивает она, проводя пальцем по круглому шраму.
— Да. — Я делаю еще один глоток.
— Когда ты служил морским пехотинцем?
— Одно из них, — отвечаю я.
Она кивает, но не спрашивает о втором, забирает у меня бутылку, и я задаюсь вопросом, сколько ей нужно, чтобы напиться. Скотч очень крепкий — думаю, не много.
— Тебе было страшно, когда ты уезжал за границу?
Я не отрываю от нее взгляда, пока делаю глоток.
— Мейсон сказал, что ты уезжал трижды, — пожимает плечами Бринли, расправляя свои длинные волосы.
— Нет, мне не было страшно, — отвечаю я.
— Совсем?
— Нет. Бояться бессмысленно. Это не изменит исхода, — просто говорю я. — Все в итоге умирают.
— Это неправда, — говорит она, и на ее лице появляется застенчивая улыбка.
Я пристально смотрю на нее.
— Все умирает, — повторяю я.
— Любовь — нет, — говорит она.
Я издаю звук, похожий на — пффф, и провожу рукой по волосам.
— Это реальная жизнь, а не романы Фицджеральда. — Я хмурюсь, наблюдая за тем, как в ее голубых глазах отражается свет лампы.
— Ты читаешь эту классику?
— Да.
— Но ты не веришь в любовь? В судьбу?
— Они не реальны. Я долгое время изучал, как работает мозг. — Я пропускаю прядь волос Бринли между пальцами, и она прижимается ко мне, ее задница дразнит мой член, требующий продолжения. — Мы используем их, чтобы почувствовать ложную надежду, что настоящее счастье действительно существует. Ты понимаешь, что это нереально, но все равно наслаждаешься.
Бринли улыбается.
— Ты вообще ни во что не веришь? В то, что кто-то присматривает за тобой? — спрашивает она, проводя пальцем по шраму на ребрах, который я заработал, нарвавшись на ограждение в Ираке.
Я поднимаю на нее глаза и провожу рукой по волосам.
— Я верю только в себя, — говорю я.
— Это мрачное существование, — комментирует она, и речь начинает звучать невнятно. Она ерзает у меня на коленях, и ее задница слегка задевает мой член. То, что она сидит у меня на коленях, так непривычно для меня. У меня было много женщин, так много, что я сбился со счета, но человеческие отношения — это что-то новое. Бринли продолжает водить пальцем по татуировкам на моей коже, и меня это не раздражает.
— Где-то в середине моего второго срока службы, я оказался в пещере, заполненной водой до пояса. Нас было десять человек. Мы направлялись захватить одного из лидеров ИГИЛ, — говорю я, наблюдая, как ее пальцы скользят по моей коже. — Это была ловушка, под водой находились мины. Шесть моих людей погибли. Я думал, что уже покойник. Я вынес на плече девятнадцатилетнего парня. Мы оставили части его ног в пещере. Я до сих пор слышу его крики каждый гребаный день. Я видел, как маленькие дети кричали от ужаса, глядя как умирают их родители, я спас бесчисленное количество женщин от изнасилований — как со стороны американских солдат, так и со стороны их собственного народа. Я видел, как пятилетней девочке оторвало руку и ногу, из-за бомбы заложенной в автомобиле. А педофилы и убийцы гниют в тюремных камерах до девяноста лет, хотя есть множество более подходящих способов заставить их страдать. Бога нет. Все происходит без причины. Люди умирают каждый день, а жизнь просто продолжается.
Бринли смотрит на меня испытующе, это не осуждающий взгляд, а взгляд женщины, которая пытается понять, кто я такой на самом деле.
— Так вот почему на твоем жилете написано «Солдат Бедлама»? Это носят военные? — спрашивает она.
— Нет, эту нашивку зарабатывают другим способом, — говорю я, не вдаваясь в дальнейшие объяснения.
Должно быть, она чувствует, что я не хочу говорить об этом, потому что меняет тему.
— Ты должен верить в свою страну, если сражался за нее.
Я делаю еще глоток, этот разговор становится слишком тяжелым.
— Я не верю в свою страну, но она мне дорога, есть разница.
— Разве это не одно и то же? — спрашивает Бринли, делая еще один глоток.
— Даже близко нет, — говорю я.
— Каждый во что-то верит. — Она больше ничего не говорит, а я наблюдаю, как по ее щекам разливается румянец.
— Хватит пить, а то тебя стошнит, — говорю я. — Он старый, он быстро ударит тебе в голову.
Неожиданно для меня она не спорит и возвращает мне полупустую бутылку.
— А говорил, что ни во что не веришь… — Она усмехается.
— Столько людей погибло. Столько людей воевало. Они отдали этому правительству свои жизни. Только для того, чтобы вернуться домой ни с чем. Без помощи, с необратимыми травмами — психическими или физическими, в большинстве случаев и с тем, и с другим. Их просто бросили. Они обратились за помощью к наркотикам. — Я сомневаюсь, стоит ли говорить, но потом добавляю: — Именно поэтому мы делаем то, что делаем.
— Что именно? — спрашивает она, и по какой-то причине, которую я никогда не пойму, я рассказываю.