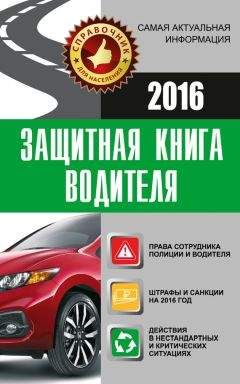Лев Ленчик - Свадьба

Обзор книги Лев Ленчик - Свадьба
Лев Ленчик
Свадьба
Мы живем в мире имен.
Мы одних называем французами, других русскими, одних — Петями, других — Пьерами, одних святыми, других — скотами, а все это вместе — культурой.
Мы культурны.
У животных ничего подобного нет. Они никого никак не называют, они живьем едят других животных и, подремывая, выставляют свои наполненные желудки под лучи тихого или буйного, или еще какого-нибудь солнца.
Мы тоже едим других животных, но не живьем, а культурно, то есть не самих животных, а их мясо, предварительно отделив его от души и лица, точнее говоря, — морды.
Предварительно отделив его от души и морды, изжарив, испарив, искромсав на кусочки, залив подливой или вином. Так что пока оно доходит до наших ртов, оно лишается всех признаков живого существа и превращается в изящно приготовленную пищу.
Стало быть, путь от бойни до наших ртов — культурный путь. Он затемняет условный рефлекс и становится условием нашего существования, но при чем здесь Пети и Пьеры — я не знаю. Я об этом не думаю.
Я — рефлекс. Я овеществленный рефлекс условия и условности. Я живу в сфере имени и ярлыка.
Видишь ли, Сашок, ты уже в том возрасте, когда можно, кажется, понять и отца. Сколько еще могу я трястись над тобой, дрожать, бояться обидеть.
Ты же вон какой чувствительный. Незначительная мелочь, шутка, улыбка, просто задержанный на тебе дольше обычного взгляд могут внести в твою душу обиду и подозрение. Но почему же эту довольно банальную привилегию тонко чувствовать и тайно обижаться ты присваиваешь исключительно себе?
Что толкнуло тебя на эту поповскую свадьбу, она или нечто иное? Вопрос не ахти какой сложности, но я не решаюсь пойти с тобой на открытый разговор, потому что хорошо знаю, чем он может закончиться.
Конечно же, дети нужны родителям в гораздо большей мере, чем родители детям. Я думаю, что в нашем с тобой случае, это особенно верно. Но позволь, где достать сил, чтобы под конец пути выбросить из себя все то, что еще живо, все то, что еще не сдохло, не сговянилось, не сгорело? Где найти юмора, чтобы достойно и лихо поплевать себе в душу, когда этого потребовала вдруг такая простая вещица, как любовь к сыну?
Вот, Тихомирыч, каких дел мне здесь подвалило. А ты волновался, что я им обрезание, не дай Бог, сделаю. А Сашку поп венчать будет. Чудеса? Да?
Разгулялась зелень, вынырнула из небытия, из ничего, из корявой ветки, из мертвого сна. Вынырнула, выплеснулась, вымахала и пошла. Пошла хлестать, темнить-хлестать, теснить-хлестать. По головам, по душам, по изумленным растопыренным взорам, дворам, подворотням.
Сказано — сделано, сделано — сказано.
А поверх всего, поверх голов и дворов, и дерев, и заборов, и лиц — сетчатая поволока белых дурманящих бутонов. Бутончиков-бубенчиков. Бубенцов.
Звенящее семя, томящее семя, семя выброшенное в свет, воплотившееся в цвете, в туго налитых шарах чуть приторможенной разгульной груди, в чуткой потаенной судороге плеч, в зове, в зыке, — в зыке, как в рыке, — в светоносном и безмолвном мычании. Откуда оно? От кого? Из чего?
— Слышишь, Мурашева?
— Ну?
— У тебя грудь колышется.
Она член нашей кафедры, эта Мурашева. Вчера еще студенткой была, сегодня — коллега. Я ее Тихомирычу сватаю. Не сватаю, а в кровать с ним уложить хочу. В постель. Оба они женаты, оба примерные супружники, оба до чертиков моральны, и потому греховная случка их кажется какой-то совершенно необоримой и сладкопакостной затеей. Она вселилась в меня, как наваждение, но и в них — тоже. В них, моральных и высоких, здоровых и чистых, тоже.
Мы с ней на кафедре сейчас одни.
Чопорная отчужденность столов и стен. Бесполые лики бессмертных, бестелесных портретов. Заоконный выброс весны, безнадзорный разгул зелено-белого семени. Семени-племени.
Тишина. Чревоугодие.
Я смотрю на атавистическую шерстку на ее верхней губке, на ее высокую пышную грудь, стянутую синим крепдешином, и предвкушаю радость стыдного, раскованного, развязного слова, которое вот-вот выпадет из меня и зависнет над нами осатанелой бездной желания и неги.
Вот оно, живое, разверзлое, скользит уже по вогнутому, слегка покатому руслу моего языка. Вот оно уже на кончике его, на самом краешке губы. Не губы, а горы, тугого мясистого отвеса — того и гляди скатится, сорвется… Я медлю, тяну, набираюсь духу и… И… Ан, нет! Стоп, братцы!
Стоп!
К литературе с уважением надо. Культурные люди. Стыдно. Стыдно-обидно, слова-то культурного для сей божественной акции в нашем языке — могучем и великом! — нету.
Свобода, свобода — ах, ах без креста! Катька с Ванькой занята. Чем занята?
— Что же все-таки было? Вы полюбились, наконец?
— Нет.
— Нет?!
— Нет.
Врет, небось. Стесняется сказать.
— Меня стесняешься?
— Ну вот еще. Будто его не знаете.
Ну как же не знать! Его-то мы как раз и знаем. Еще как знаем. Что ж ты, Тихомирыч, едриська в сиську? Что же ты?
— Что же ты, Тихомирыч, по тебе Мурашева сохнет!
Молчит. Легко не распахивается. Застегнут.
Вся эта история тянется уже где-то с хороших полгода. На прошлой неделе, по долгу заведующего кафедрой, приперся ко мне на лекцию. Уселся в первом ряду, слушал, егозил, записывал что-то.
После звонка бросил:
— Разберем после занятий. Подождешь меня в Девятой. Домой не убегай.
Сидим в Девятой. Он разбирает — я слушаю. Все по правилам. Пять полных лет провалялись чуть ли не на одной постели, койка к койке. Но все по правилам. Служба.
Помнишь, вместе зубрили, ходили в столовку, как положено, пили и вино, и зубровку, и под грохот баталий в опьяненье глубоком наши мысли летали от Гомеров до Блоков…
Ах ты, Леша-мудреша, дружище ты мой дорогой!
Высокий лоб, точеные скулы, нос, линии щек. Все четко, правильно, будто не лепили, а рубили, вот так — раз, два — и готово. Стоит глыба дерева, подходит скульптор, топором раз — щека, еще: раз — другая щека. Потом так же — лоб, нос, подбородок. Так и вырубили готовеньким для ратных дел и свершений. Никаких тебе там маминых темных труб, слизи, вони, гадости. Чистая работа, ни сучка ни задоринки. Только холодок какой-то в пепельных, серо-голубых глазах. И серьезности много больше, чем надо.
Ну улыбнись, Тихомиров, тихоня гороховая! Ну улыбнись хотя бы!
Наконец, закончил, освободился. Ожил, наконец. И немедленно холодок сменился щедростью, и сам он весь расплылся, потеплел. Самому неловко. Куда подевался мундир?
Смущенно запихивает в портфель бумаги.
— Что вечером будешь делать? — спрашивает.
— То же, что всегда. «Голос» буду слушать, — непринужденно закидываю в отместку за только что допущенную им казенщину.
Не среагировал, пропустил мимо, хотя обычно вскипает на этом, как волна.
— Я о Людмиле хотел спросить, — (ах вон оно что!) — Ты думаешь, она все еще не прочь?
— Не думаю, а уверен.
На другой день я вручил ему ключ от квартиры, раздобытый никем иным, как самой Мурашевой. Квартира находилась где-то на отшибе, а ее хозяйка, Мурашевой школьная учительница и родственница, — со студентами на уборочной. «Вы только ему не говорите, что это я достала. Сами понимаете».
— На! — говорю ему. — Сама принесла.
Молчит. Улыбается. Волшебный ключик на ладони держит и молчит. Взвешивает.
Обескуражен. Польщен. Да, елки-моталки.
А что, елки-моталки? И хочется и колется. На дергающейся улыбке — растерянность, в серых зрачках — огоньки вожделения.
— Значит, сама — говоришь?
— Сама.
Прости меня, Мурашевна, предал я тебя. Думал, так лучше. Думал, против этого не устоит твой Алексей Георгиевич.
Предательство — прелюдия любви.
Но никакой любви не было. Так на прелюдии все и застряло. Ключ он взял. По назначенному адресу пошел. В назначенное время пришел. Но то ли кто-то помешал, то ли у самого поджилки в последний момент затряслись — кто знает? Мурашева видела из окна, как он подходил, оглядывался, галстук без конца поправлял, прическу. Она ждала.
Она и сейчас ждет.
— Ждешь?
— Кого?
— Ну кого?
— А-а-а.
Подняла голову и уставилась на меня. Губы чуть перекошены, полуоткрыты, над верхней заметно поблескивают черные усики. В черных, маленьких, глубоко посаженных глазках — что-то вроде того, что ничего, мол, не поделаешь, но я вот хороша и потому жаль.
Да, Мурашева, жаль. Жалко. Жарко натопленная печь — ты. Паровозная топка. Попка. Жар.
Жаль.
— Послушай, Мурашева, чего бы нам с тобой ни полюбиться?
— Шутите?
Встала, подошла к шкафу, дверцы — в распах, руки кверху. На цыпочках, как на пружинках. Упругая крутизна стана. Водопад стана. Гуси-лебеди. Лебединая песнь. Потянулась за чем-то. Синий крепдешин заморщинил и тоже вверх пополз. Ходит маленькая ножка (маленькая ли?), вьется локон золотой. Дурак ты, мой Лешка Георгиевич. Ох и дурак.