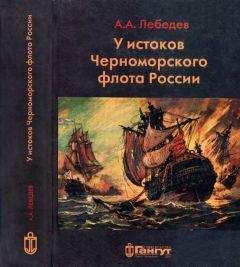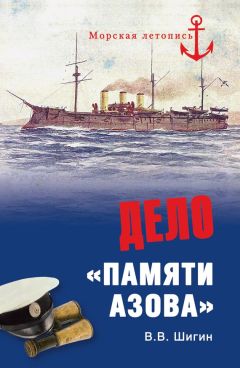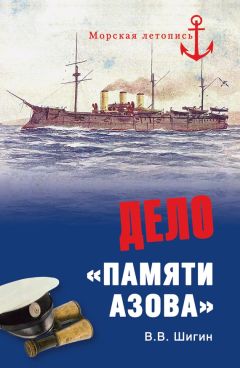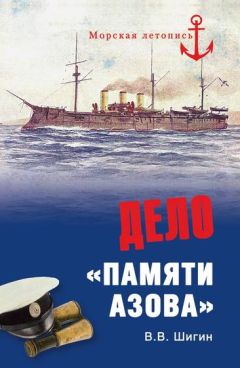Чемпионы Черноморского флота (СИ) - "Greko"
Зачем я устроил гражданскую войну на землях шапсугов? К чему были все эти смерти, если главный виновник преспокойно плывет себе к турецким берегам, чтобы потом отправиться в свой промозглый Лондон? Наверняка, издаст книжонку о своих невероятных приключениях в Черкесии и затмит славу Спенсера. И будет хвалиться в гостиных перед изнеженными английскими дамами, повествуя о своих подвигах. Как он оставил с носом одного грека, чересчур много о себе возомнившего…
Боливар издал странный звук. Плавный ход его заплыва нарушился. Я сполз с его спины и поплыл рядом, уцепившись за гриву, чтобы облегчить ему возвращение. Но не тут-то было. Он явно заволновался. Чуть не погрузился в воду с головой. Испуганно заржал, захрипел, раздул ноздри. Я попытался поддержать ему голову, как-то помочь, спасти… Дергал за повод. Ругался. До берега уже немного. Нужно еще чуть-чуть усилий.
— Ну давай же, Боливар! Ты сможешь!
Боливар не смог. Глубина начиналась почти у самого захода в воду. Нам не хватило каких-то метров двадцати. Конь забился и сразу погрузился с головой…
Я, не отпуская тонкоременную узду, нырнул за ним. Боливар стремительно погружался вниз. Уже не боролся. Может, уже и был мертв. Его глаза были открыты. Никакого укора или страха в них не было. Лишь покорность судьбе. Я еще держался за поводья, тянул их вверх. Смирился, понимая, что еще мгновение, и мне также не получится выбраться. Резко дернул за уздечку, чтобы сблизиться с Боливаром. Успел произнести про себя «прости», успел поцеловать его в белую звездочку на лбу. После чего опустил поводья и, уже выпуская последние капли воздуха, забил ногами и руками навстречу проглядывавшему через толщу воды солнцу.
Я не запомнил, как выбрался на пляж. Ноги сразу заплелись. Револьверы, уцелевшие по странной иронии судьбы, раскачивались в такт моих шатаний на шелковом шнуре, обвившим шею.
Круглая галька бросилась мне в лицо. Не обращая внимание на боль в разбитом в кровь носу, я бил кулаками по окатышам и что-то выкрикивал, задыхаясь. Казалось, нет никакой возможности протолкнуть в легкие хоть каплю горячего воздуха.
Очнулся от звука цоканья копыт по камушкам. Поднял голову. Ко мне подъехала Коченисса. Остатки отряда держались в метрах десяти от нас.
— Это ты во всем виноват! — раздался её металлический голос. — Только ты!
— Я знаю, — прошептал я.
— А я знаю, что ты русский шпион! — крикнула она, обернувшись к отряду.
Тут же раздался вначале недоуменный ропот. Потом ропот стал угрожающим. Все перешептывались, смотрели на меня. Действий никаких пока не предпринимали, ожидая, наверное, что я начну оправдываться или опровергать обвинение девушки.
Коню Кочениссы передалась вся ненависть озлобленной юной черкешенки. Он ржал беспрерывно. Быстро перебирал ногами в паре шагов от меня.
Я покачал головой.
— Ты думал, верно, что я не понимаю вашей речи? Не разберу, о чем ты болтал с русским пленником?
— Сейчас это уже не имеет никакого значения, Коченисса.
— Не смей произносить своим подлым языком моего имени! — она выхватила свою турецкую саблю.
Раздался дружный выдох отряда.
Я спокойно смотрел на Кочениссу.
— Ты не сможешь причинить мне боль, девочка. Даже если сейчас вокруг меня соберутся все люди, живущие на планете, чтобы побить меня камнями, растерзать на куски, стереть в пыль, чтобы от меня ничего не осталось… И это мне не причинит боли.
Коченисса успокоила коня. Потом опустила саблю, ничего не понимая.
— Ты умная девушка, а не можешь понять простой вещи. Я сейчас сам себе главный судья. Сжираю себя сам. Больше всех на свете сейчас желаю своей смерти!
Коченисса, выслушав, вскрикнула, опять подняла саблю, замахнулась. Я повернул голову, смотрел на неё. Она опять выкрикнула что-то нечленораздельное. Ударить не смогла.
— Почему?
— Есть такая мудрая мысль, — я отвернулся, чуть наклонив голову, чтобы если она все-таки решилась, все бы закончилось одним ударом, — Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. А я и не заметил, что она уже не смотрит на меня. Она меня уже проглотила. Я слишком очеркесился на свою беду!
Я начал задыхаться, сдерживая крики. Дернул шелковый шнур на шее, будто это он сдавил мне кадык.
— Я пацанов не сберёг! Мой верный конь утонул, вытащив меня. Я тебя погубил. Потому что я видел, чувствовал, что парни тебя уже почти оживили. Ты опять становилась хрупкой и красивой девушкой, готовой к будущему материнству. Ты уже была готова снять с себя оружие и не играть в наши глупые мужские игры. А я тебя погубил. Ты уже никогда не выберешься из своей брони. Этот мир уже не услышит твоего настоящего голоса. Если и были в тебе какие-то ростки любви, то я их растоптал. Теперь в тебе живет и будет жить только ненависть. Так что мне нет прощения. И тем не менее — прости меня. А теперь делай, что должно. Я готов.
Коченисса опустила саблю. Боролась со слезами. Потом вложила в ножны клинок с надписью «пусть он коснется только неверного».
— Нет, Зелим-бей. Я тебя не трону. Ты не заслужил такой легкой смерти. Живи. Живи и мучайся. Живи, как и я. С ненавистью. Потому что, пока ты не убьёшь всех тех, кто виноват в смерти Цекери и Курчок-Али, ты не успокоишься. Мира и любви не будет в твоем сердце. Жри себя! Сожри себя! Это ты заслужил!
Коченисса тронула коленями коня. Я смотрел ей вслед. Она остановилась. Развернулась.
— А когда ты убьешь всех своих демонов, начнешь возвращаться к жизни, тогда не попадайся мне на пути. Тогда я и убью тебя! — прокричала она. Потом обратилась к отряду. — За мной!
«Вот и все! Прощайте мои мечты о спасении людей! Прощайте верные друзья! История Зелим-бея подошла к концу!»
Отряд ускакал. Мой бывший отряд, теперь возглавляемый хрупкой, красивой девушкой с железным сердцем и металлическим голосом. Творением моих рук. Я свалился набок. Завыл.
…Сколько я так пролежал — не знаю. Потом встал. Пошел в сторону Туапсе. Равнодушный ко всему. Без чувств, без слез. Пустая оболочка. Подобие человека.
К вечеру добрался. Шел, не обращая внимания на занервничавших солдат, уже выставлявших ружья.
«Прав был папа, когда говорил: „собаке — собачья смерть!“ А такой собаке, как я, и пуля — роскошь! Давай, солдатик, стреляй уже!»
Появился офицер. Это был комендант крепости, майор Середин. Резко окликнул всех, чтобы опустили ружья. Потом бросился ко мне.
— Константин Спиридонович! Что же вы⁈ Чуть грех не взяли на душу!
Я молчал.
— Что с вами? — несмотря на темноту, офицер рассмотрел мое мертвое лицо. — Что случилось?
Я молчал.
[1] Крепость солдатского спирта составляла 65 градусов.
[2] Карча — диалектное название вывороченных паводком деревьев, а также пней и коряг.
[3] Интересный факт. В американском флоте того времени у матросов была схожая традиция, описанная в «Белом бушлате» Германа Мелвилла. Этакий способ разнообразить надоевший рацион.
[4] Чеченское ругательство того времени. Типа «твой отец ест свинью» или «сын свиноеда».
Глава 22
Вася. Крепость Внезапная-Северный Дагестан, сентябрь 1838 года.
О случившемся ночью Милов, разумеется, никого в известность не поставил. Да и времени особо на это не было. Рота скоренько позавтракала жидкой кашицей из сухарей и спешно выдвинулась к Внезапной, наверстывая потраченное на ночевку время. Лосев, не без оснований, ждал разноса от Пулло за опоздание.
Крепость, еще одно творение Ермолова, занимала важное стратегическое положение. Напротив нее за рекой Акташ лежал богатейший торговый аул Эндирей — бывший невольничий базар всей Восточной Черкесии и место проживания знатнейших кумыкских князей[1]. Из него вели дороги в Нагорный Дагестан. Через Салатавию с ее дремучими лесами и знаменитым Теренгульским «оврагом», прорезывающим вдоль весь край — сложнейшее препятствие, через которое можно было перебраться всего по двум крутым тропам. За ней Гумбет и Андия — одно из богатейших промышленных обществ, славившееся производством превосходных дагестанских бурок. Гигантский Андийский кряж оканчивался в Салатавии огромными округлыми зелеными высотами, господствующими над Кумыкской равниной и упирающимися в долину Сулака. Туда, к перевалам в Андию, выдвигался отряд Крюкова[2].