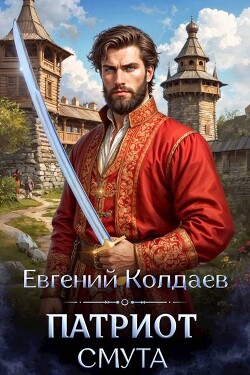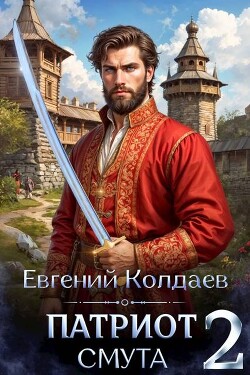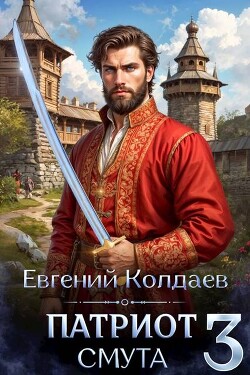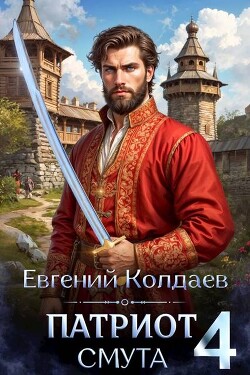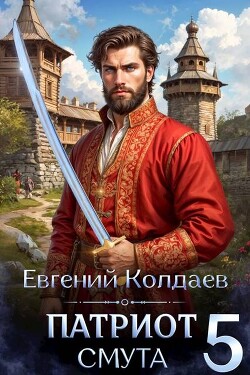Патриот. Смута. Том 6 (СИ) - Колдаев Евгений Андреевич
Глядишь, когда вольются ко мне войска, оставшиеся от лагеря Лжедмитрия на Упе и Ляпуновские рязанцы — будет толк. Может, и в Москву войдем без боя. Отворят нам, увидев знамя царское.
Кто знает.
Уверен, столкнись моя конница с конницей Шуйского здесь и сейчас, то бились бы на равных. А то и с преимуществом. Все же слаживание и грамотное построение сотен, выделение сотников и десятников давало свои плоды. Также работало разделение частей по типу боя — ударная кавалерия в бронях, люди огненного боя и вынужденная мера — лучники старой комплектации превосходили смешанные полки Шуйского.
Смотрел я на своих людей и понимал, что все их навыки скоро придется проверять.
Очень не хотелось делать это сегодня вечером. Надеялся я, что Ляпунов, как и обещал, с миром идет. Не хитрит, не дурит и не устроит провокаций. Хотя на тему последнего я в районе обеда плотно пообщался с сотней Якова. Даже если против меня и всего нашего лагеря не затевал бы они ничего, то вот пленник наш — Лжедмитрий…
Уверен — этот человек ему интересен
Сам ли он, или люди его. Ночью к гадалке не ходи, придут по его душу.
В районе полудня произошла смена тренирующихся отрядов. Та часть, что занималась окапыванием, лагерными делами и постовой службой почти вся вышла в поле на обучение. А вернувшиеся заняли их место. Лишь некоторые бойцы не участвовали. Те, которым предстояли ночные караулы. Все же спать людям тоже было надо, а ввиду того, что именно этой ночью я ждал возможных проблем, халатно отнестись к отдыху бойцов и их возможностям ночью стоять на страже я отнесся максимально серьезно. А также отправленные в дальние разъезды разведчики.
За полдень пришли гонцы от Ляпунова.
Их тут же отправили ко мне.
Сидел я в приемном покое. За спиной телохранители, по правую руку — Яков, а по левую — Григорий. Тренко, как заместитель меня в качестве воеводы занят был.
Сопровождающий их разъезд, что докладывал, сообщил еще до того, как самих гонцов ввели.
Интересное.
Когда увидели пришедшие тренировочную атаку моей одной из лучших сотен в полной броне, то глаза их полезли на лоб. Это было сделано показательно, готовилось заранее. Специально я приказал проводить их мимо этих людей. Чтобы видели они и всадников огненного боя, и самые лучшие, земляные укрепления.
Да и на пехоту пялились, как на чудо какое-то иноземное.
Вошли
Двое их было, пропыленных людей. Поклонились, поприветствовали, сказали, что воинство рязанского воеводы перебирается через реку чуть выше по течению. Там были броды и возможность перейти пехоте и перетащить телеги. Ляпунов в письме, переданном мне, бил челом и просил об аудиенции сразу по подходу.
Сам с отрядом вперед не выдвигался, за что извинялся.
Чудно.
Гонцы, по моему требованию уселись. Указал им за стол, чтобы присоединялись. Поначалу как-то нервничали, говорили сбивчиво. Не ждали такого приема. Видимо, думали, что дойдут до лагеря, письмо передадут и обратно. А их и встретили и проводили и доложили.
Да еще и кормить собрались.
А я читал. Писано было, что должен Ляпунов в войсках присутствовать и лично руководить.
Это несколько удивляло и направляло мысли в определенные русла. Выходило по его словам, что армия его без него не очень-то функциональна. И все держится на авторитете самого Прокопия и работает только под его надзором. Либо, второе, что боится он за жизнь свою. И если вблизи моего лагеря будет стоять его сильномогучее, как казалось рязанцу войско, то не случится с ним ничего, или как?
Если боится — то, как мы с ним говорить-то будем? В чем суть аудиенции? Я к нему не готов ехать, а он, выходит, ко мне.
И что?
Встречаться в чистом поле между войсками?
Как-то внешне уважительно звучало письмо, а подтекст считался мной недружественный. Не в рамках того, как изначально писал мне Ляпунов. Смысл упоминания того, что он при войске — остался за пределами моего понимания.
Но, время покажет.
Воевода же писал, что челом бьет и меня, царем признавал. Значит — ему ко мне ехать и в стан заходить, а не мне. Иначе не как. Это не я к нему напрашивался. Только вот бойцы его меня не господарем, а воеводой называли. А это фактор важный, показательный.
Поговорив с гонцами, я понял, что ведет Ляпунов примерно четыре тысячи. И это с посошной ратью, примерно в тысячу человек. Негусто, так-то. Зачем Прокопий тащил крестьян с собой, также осталось для меня загадкой. Артиллерии в войске не было. Осад и штурмов вроде не предполагалось. Да и… Захоти они лезть боем на Тулу — сил таких скорее не хватило бы.
А вот со Лжедмитрием, что из Калуги шел… Здесь иной расклад.
Хотя, на мой взгляд, тоже мало. Тула — очень крепкий город, если огнем и мечом его брать. Но гарнизон, как я понимал — небольшой. И воевода молодой, неопытный, новый. Значит, хитростью-то можно.
Поэтому, о посошной рати мысль моя шла в сторону того, что взяли ее для большего объема воинства, чтобы значимости придать. Чтобы окапываться быстрее, укрепления ладить и перевозы через реки быстрее делать.
Расспрашивал дальше гонцов в непринужденной манере. Говорили они свободно, открыто. Видно было, что ко мне относятся как к союзнику. И даже с большим уважением, как к какой-то важной персоне — князю, воеводе. Но, не царю, это уж точно.
Разговор наш шел к концу. Сидя, ожидая обед, обратился к ним
— Ну что, сотоварищи, все сказали мне, все рассказали. — Улыбнулся им. — Пока кушанья ждем, скажите, как дорога от Рязани?
— С божией помощью. — Быстро ответил один из них.
— А чего так воевода быстро собрался-то. Мы же ним переписку вели. О татарах, о делах и не собирался он сам из Рязани выезжать. А здесь раз — и с войском.
Замешкались бойцы. Видно было, что не знают, чего отвечать. Один протянул.
— Мы же люди, воевода, маленькие. Дозор несем, письма возим. — Переглянулся с другим, добавил. — Таких дел не ведаем.
Ясно. Похоже на правду.
— А сколько же конных Ляпунов приведет? Как с конями-то вообще, с фуражом по дороге. Здесь у нас-то земля обезлюдила совсем. А от Рязани как?
— Воевода, да дела страшные. — Покачал головой тот, что был болтливее. — Смута всех разогнала. Но у нас, на Родине, там, на Оке реке сила есть еще.
Он неуклюже улыбнулся.
— А чего же вы не по Оке пошли?
— Так мы поначалу по ней, а потом… Нас же к Туле воевода вел. Вот и вышло. — Он пожал плечами.
— А что о Нижнем Новгороде слышно? — Я закинул удочку в надежде получить хоть что-то в ответ.
— Так это… Далеко же. Времени то сколько… — Замялся говоривший.
Он точно что-то знал. Так-то Нижегородцы за Шуйского и власть центральную стояли. Били всякие банды Лисовчиков и прочих в край распоясавшихся приверженцев Лжедмитрия.
Мы диалог продолжили.
Выдали они, что конницы у Ляпунова примерно половина, как и пехоты. И что сила эта большая.
По составу, если считать.
Говорив с этими людьми, я понимал, доспешных у Ляпунова раз-два и обчелся. Все ушли в Москву, в войско Шуйского, что в реальной истории к Клушино двинулось. А здесь собрал рязанец тех, кто остался. Самых последних.
Может, поэтому и сидит он при войске, потому что надежность его под вопросом. Либо молодежь неопытная, либо показаченные какие-то крестьяне бывшие. Либо те, кого при хорошем случае с земли поднимать не стоило.
Пока еду ждали, задумался я. Замолчал.
А что Нижегородцы? Вроде бы по словам Боброва не успевало их воинство к Серпухову, к назначенному мной сроку. Я ему задачу ставил — десятого июня. А он что… Припоминаю — два месяца сказал. То есть начало июля где-то.
Уверен, постараются побыстрее, слухи-то о моем походе расходятся быстро.
Но от сегодня, это считай месяц. Ну может пятнцать-двадцать дней.
Выходило сейчас так, что и я задерживался, хотя и не сильно. Удивительно, но ведь от Нижнего, скорее всего, через Рязань же по Оке пойдет. Знает ли об этом Ляпунов? Он же с собой забрал многих. Обезлюдила служилыми людьми земля рязанская.