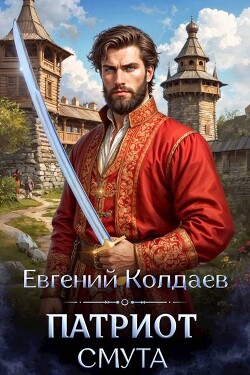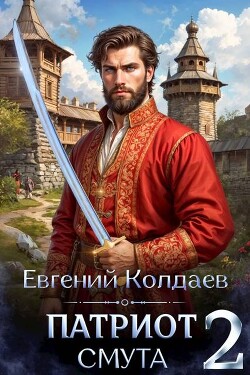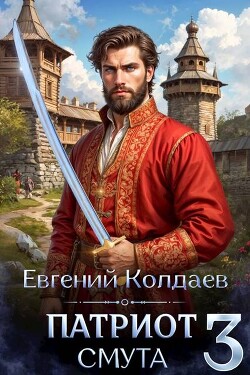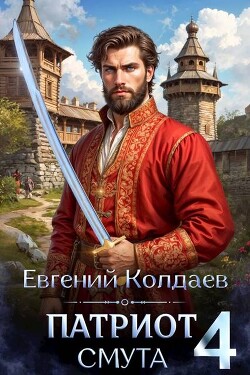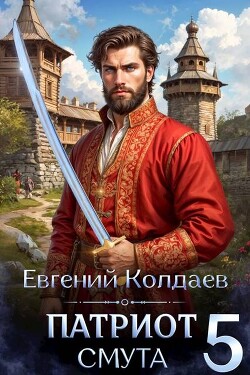Патриот. Смута. Том 6 (СИ) - Колдаев Евгений Андреевич
Он вновь поклонился, перекрестился.
Передал ему несколько писем, вечером с Григорием заготовленных. Добавил.
— Кому какое, в целом, неважно. Они одного смысла. В них сказано, что я Игорь Васильевич Данилов. Иду на Москву, чтобы собрать там Земский Собор со всей Земли Русской! Сказано, что прохода требую. И всем, кто желает присоединиться в походе, место найдется. — Я посмотрел на старика, глаза того расширялись все больше.
От удивления. Казалось, вот-вот из орбит вывалятся.
— Еще сказано, что воровской царик у меня в плену. Что никакой это не Дмитрий. Обычный человек. Матвей, сын Веревкин из Северской стороны. Написано, что выдавал себя за Царя. Оболгал, обманул всех людей русских. Жив он и в лагере моем. Тот самый, что в Тушине сидел, а потом в Калуге. Кто хочет, может прийти, глянуть. Сюда. А если не торопится, то через три дня я его к Туле сам привезу.
При этих словах батюшка перекрестился.
— А еще сказано, что Шуйскому пора бы тоже с трона слезать. Да в постриг монастырский идти. Тогда, может, и вымолит прощение у Земли, у людей всех. И что не ради себя я в столицу иду. И что каждый в войске моем знает, почему движемся мы туда. Клятву мне дал, а я перед каждым поклялся в том, что Земский собор соберу. — Я чуть помолчал, добавил. — Или помру, на пути к этой цели.
Старик моргал, переваривал услышанное.
— Передай тем, кому доверяешь и обратно. Люди ждать тебя будут.
— Все сделаю, господарь. — Он поклонился.
Я благополучно прикомандировал его к небольшому разъезду, и они умчались на север.
А сам занялся важными делами. Ведь вечером меня ждала встреча с Ляпуновым, воеводой собранного под Рязанью войска.
Первая часть дня, что началась для меня после быстрых водных процедур в баньке, прошла в рутинных делах и суете.
Ездил я окрест Дедилова, по лагерю и за его пределами с телохранителями. Смотрел, как готовиться воинство мое. На земляные работы поглядывал, которыми Филка и Вильям ван Врис занимались, укрепляя лагерь. Часть моих бойцов с почти всеми прочими голландцами и французом тренировались в поле.
Конница занималась сама.
Нашли они более или менее ровное место.
Примерно половина ее состава строилась в коробки и репетировала, оттачивали маневры. Повороты, разъезд врассыпную, переходы с шага на резкий галоп, для удара или отхода. Стрельбу из лука на скаку по мишеням.
Порох не тратили, лошадей не пугали.
Посмотрел, привстав в стременах. Выглядело вполне уже неплохо. Маневр выходил довольно ловко, но, удастся ли делать также, когда кони будут бояться врага? В самой гуще боя испуг животного, дело опасное. Получиться ли у самих людей удержать их, направить.
Хотелось верить, что да. И что вся эта наука, вбиваемая в голову каждую свободную на марше минуту, не пойдет прахом.
— Хорошо ходят. — Аж присвистнул Богдан, которые пристальнее всего из троих наблюдал за действом. — Выучились.
— Это да. — Кивнул в ответ.
С пехотой было попроще. Но, тренировал их мой француз жестко. Ставку Франсуа делал именно на нее. Кавалерия — больше рассматривалась им, как вспомогательный род войск. А костяк — это пешие служилые люди. Пикинеры и аркебузиры.
Люди надежнее лошадей.
Если вспомнить историю, то семнадцатый век, это как раз постепенный уход от рыцарской армии в пользу пехоты. Все больше и больше разрастались вооруженные силы. Коней на всех не хватало, это раз. Да и качество их, чтобы обеспечить хоть какой-то эффект, должно быть, высокое. Выучка, как животных, так и самих воинов, тоже должна быть на высоте.
Без этого — вся ценность дорогостоящей, боевой единицы сильно страдала.
Второе — доминирование закованных в латы малых отрядов пошатнулось. Порох, арбалеты, пики — все больше уравнивал простого наемника, хоть и хорошо тренированного, но не обязательно благородного и рожденного воином со знатным человеком. Не было такого, что один аристократ мог разогнать десяток, а то и сотню крестьян, потому что имел навык войны и необходимое снаряжение.
Такие героические истории уходили в прошлое.
Война становилась все более массовой.
Третье как раз связано с тем, что вооружать пехоту можно было достаточно эффективно, но более дешево. А на поле решать задачи она могла, чуть ли не лучше рыцарей.
Четвертое — осада и штурм крепостей. Опять же требовался не малый элитный контингент, а умеренно обученных, знакомых с принципами инженерного дела людей. Армию, которая может и окружить, в кольцо взять укрепление. А еще копать, строить контрвалы, делать подкопы под башни и стены. Подрывать их.
Рыцари не очень хорошо понимали в рытье земли.
Спорить с этим было сложно.
Да, несмотря на все это, у нас на Руси и в соседней Речи Посполитой еще долго конница будет достаточно важным родом войск. Набеги от южных степей, с Поля, а также расстояния тому виной. Колоссальные, невероятные просторы, по которым пешком идти ужасно долго. А до Суворовских маршей, вышколенных и выверенных, еще почти две сотни лет изменения не столько тактики ведения боев и вооружения. Больше уровня мотивации, психологической обработки, мотивации простых солдат. А также организации воинства, его снабжения, стратегического маневра и всего, что позволяло бойцам эффективнее сражаться.
По всем этим причинам, в восточной Европе конница оставалась важной силой на поле боя. Отказаться от нее в противостоянии с татарами было просто невозможно.
Без сотен, могущих сражаться в Поле, отбивать атаки и наскоки, преследовать, ловить было почти нечего.
Либо хитростью заманивать в плохо проходные места.
И если на западе континента испанская пехота втаптывала всех и вся на своем пути в грязь. Подавляла своей мощью. То у нас все же было не так. Старые традиции ведения боя диктовали кое-какие устойчивые привычки.
Но, это даже лучше.
Более грамотное и качественное использование различных родов войск их комбинирование должны были выдать лучшие результаты. Этим во время слаживания мы и занимались. Франсуа и голландцы муштровали, а я на каждом из советов говорил о тренировках и образе действий в случае боя.
Качество сейчас могло взять верх перед количеством.
Этому были подтверждения.
К сожалению, в реальной истории Клушино это показало. Небольшой в сравнении с русской царской армией польский отряд, состоящий из лихих и закованных в латы крылатых гусар, смог успешно противостоять и на голову разбить неумело управляемое, пассивное войско. Одолеть в очень сложных условиях. Даже если оно превосходит его в несколько раз числом. И казалось бы, может выставить и хорошую наемную пехоту и достаточно большие массы кавалерии.
Все равно польская латная конница сотворило чудо.
Понимая эти проблемы, я требовал учиться.
Сотники, к слову, на всех военных советах только кивали. Не было в них боярской напыщенности и стремления воевать так, как предки завещали. Предки не были идиотами, они подстаивались под ситуацию. И нам равняться на них и следовать букве, а не духу тактики ведения война, казалось мне глупой затеей. Да, традиция, все дела. Но это же жизней людских касается.
Воевать надо не как писано тысячу лет назад, а по ситуации, с разумом.
Время требовало, что где надо было сражаться по-новому — нужно было адаптироваться.
Мое воинство, состояние почти на сто процентов из людей бедных, с земли поднятых, не входивших в древнюю аристократию как раз хорошо понимало нововведения. Они видели, что казацкие силы, стоящие за простым атаманом Болотниковым, вполне успешно били элитные части царских войск, состояние из бояр.
Видели и сами участвовали.
На поле боя решала не знатность, а толковость, выучка, подготовка. Снаряжение, конечно, тоже. Но с последним я подтянул свои силы до минимально приемлемого, на мой взгляд, уровня. А боярские, царские силы обеднели. Все же люди в них погибали, снаряжение изнашивалось, терялось, пропадало, требовало ремонта.
И все эти факторы уменьшали их преимущество.