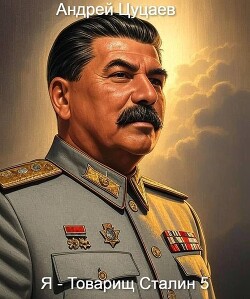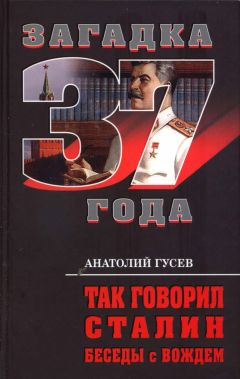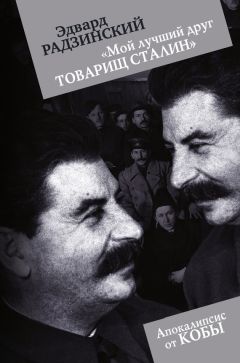Я – Товарищ Сталин 6 (СИ) - Цуцаев Андрей
Хансен вдруг остановился, подняв руку. Ханс замер, его пальцы невольно сжали винтовку, металл которой холодил ладони даже через перчатки. Полковник присел на корточки, указывая на свежие следы в грязи — глубокие, с чёткими отпечатками копыт.
— Олень, — прошептал он, его голос был едва слышен. — Крупный. Молчи и следуй за мной.
Они двигались медленно, следуя за отпечатками через заросли терновника и папоротника, чьи колючие ветви цеплялись за одежду. Сердце Ханса колотилось, не от охоты, а от присутствия Хансена, чья тень казалась длиннее лесных деревьев, нависая над ним, как угроза. Они вышли к небольшой поляне, где следы вели к мелкому ручью, чьи воды блестели под лучами солнца, пробивавшимися сквозь листву. Хансен опустился на колено, изучая землю, его пальцы коснулись примятой травы, словно читая её, как книгу. Затем он махнул Хансу присоединиться.
— Смотри сюда, — сказал он, указывая на потревоженный участок почвы. — Он близко. Ты идёшь налево, я направо.
Ханс кивнул, заняв позицию слева, за поваленным бревном, поросшим мхом и лишайником. Он держал винтовку наготове, прицелившись в сторону зарослей, но его взгляд то и дело возвращался к Хансену. Полковник осматривал деревья.
Минуты тянулись, лес молчал, лишь ручей журчал, да ветер шелестел в кронах. Ханс пытался сосредоточиться, но мысли путались, как тропы в этом лесу. Вдруг — шорох, быстрое движение в кустах. Ханс поднял винтовку, палец замер над спусковым крючком, но он заколебался. Тень была слишком нечёткой, слишком быстрой — то ли олень, то ли просто ветер шевельнул ветки. Он опустил оружие, его дыхание стало прерывистым.
Хансен появился рядом.
— Ты не выстрелил, — сказал он с лёгкой насмешкой, словно ожидал этого.
— Не было чёткой видимости, — ответил Ханс, встретив его взгляд. — Не хотел тратить патрон зря.
Хансен посмотрел на него, его глаза сузились, словно он пытался разглядеть что-то за маской спокойствия Ханса. Затем он кивнул.
— Умно. Терпение — добродетель на охоте. И в нашей работе тоже. Поспешишь — и всё потеряешь.
Они продолжили выслеживать оленя, но тот ускользал. Следы вели через заросли, через низины, где почва была влажной и липкой, цепляясь за сапоги, но дичь оставалась недосягаемой. Ханс шёл вслед за Хансеном, но мысли были далеко. Он представлял, как Хансен внезапно поворачивается к нему, приставляет дуло к его груди и спрашивает: «Кому ты служишь, Зейдлиц?» Эта картина была такой яркой, что он едва не споткнулся о корень, выступавший из земли.
Они остановились у огромного дуба, чьи корни, словно змеи, выползали из земли, покрытые мхом. Хансен прислонился к стволу, закуривая сигарету. Дым поднимался вверх, смешиваясь с запахом хвои и земли, а его глаза, острые, как у ястреба, изучали Ханса.
— Зейдлиц, — начал он. — Я наблюдал за тобой. Ты хорош в своём деле — чертовски хорош. Отчёты точные, выдержка железная. Но времена неспокойные, и я не знаю, кому можно доверять.
Ханс почувствовал, как холод пробежал по спине, несмотря на тёплое солнце, светившее сквозь кроны. Он сохранил нейтральное выражение, хотя сердце колотилось так, что казалось, Хансен мог его услышать.
— Спасибо, герр полковник, — сказал он, стараясь говорить ровно, как будто обсуждал погоду.
Хансен выдохнул дым.
— Мне нужны люди, на которых я могу положиться. Смерть Гейдриха всех взбудоражила. Гестапо дышит нам в затылок, роет, ищет предателей. А Канарис… — Он замолчал, взглянув на Ханса, словно проверяя его реакцию. — У Канариса свои планы. Всегда были. Иногда кажется, что он играет в свою игру, а не в ту, которую ждёт фюрер.
Ханс кивнул, стараясь не выдать напряжения, которое сковало его тело.
— Методы адмирала… необычны, но эффективны, — сказал он осторожно, взвешивая каждое слово, как шахматист, обдумывающий ход на доске, где ставкой была жизнь.
Губы Хансена дрогнули, но это не было улыбкой.
— Может быть. Но фюрер требует лояльности, абсолютной преданности. И я не уверен, что все в Абвере это понимают. Слишком много игр, слишком много тайн. Мне нужно знать, кому я могу доверять. — Он сделал паузу, его взгляд впился в Ханса. — Могу я положиться на тебя, Зейдлиц?
— Конечно, герр полковник, — сказал Ханс, выдавливая улыбку, хотя внутри всё сжалось от холода. — Вы можете на меня рассчитывать.
Лицо Хансена смягчилось.
— Я знал, что могу. Ты хороший человек, Зейдлиц. Но держи глаза открытыми. Времена неспокойные, и тот, кто оступится, не поднимется.
Ханс кивнул, чувствуя, как его сердце сжалось. Полковник явно искал трещины в его лояльности, и Ханс знал, что любой неверный ответ может стать роковым.
Они продолжили охоту, но дичь ускользала. К полудню они наткнулись на свежий след — глубокие отпечатки копыт, ведущие к густому подлеску. Хансен снова предложил разделиться, отправив Ханса обойти с фланга, пока он сам двигался вперёд. Лес здесь был почти непроходимым, ветви цеплялись за одежду, а земля под ногами была скользкой. Хансен двигался с уверенностью хищника, его винтовка лежала в руках, как продолжение тела, а его шаги были почти бесшумными.
— Тише, — прошептал Хансен, останавливаясь. Он указал на заросли впереди, где мелькнула тень. — Олень. Готовься.
Ханс занял позицию, прицелившись, но его руки дрожали. Не от холода, не от усталости — от страха, что Хансен знает больше, чем говорит. Олень появился на мгновение — великолепный зверь с ветвистыми рогами, его шкура блестела в лучах солнца, пробивавшихся сквозь кроны. Ханс выдохнул, нажимая на спусковой крючок, но выстрел ушёл в сторону, пуля ударила в дерево, осыпав кору. Олень метнулся в заросли и растворился в лесу.
Хансен хмыкнул, поправляя ремень винтовки на плече.
— Ты сегодня не в форме, Зейдлиц, — сказал он.
— Простите, герр полковник, — ответил Ханс, стараясь говорить спокойно, хотя его сердце всё ещё колотилось. — Рука дрогнула.
Хансен лишь посмотрел на него, его губы слегка изогнулись.
— Ничего, бывает. Главное — не терять голову.
Они остановились для привала у небольшой полянки. Хансен достал из рюкзака хлеб, копчёную колбасу, сыр и флягу с водой, и они сели на поваленное бревно, разделяя скромный обед. Ханс жевал, едва чувствуя вкус, его мысли были заняты Хансеном, чьи слова о лояльности всё ещё звучали в ушах. Полковник рассказывал истории из своей молодости — о службе в военной разведке до прихода национал-социалистов, о старых операциях, когда всё было проще, а враги были яснее. Но каждый его рассказ казался частью проверки, и Ханс чувствовал, как его нервы натянуты до предела.
— Знаешь, Зейдлиц, — начал Хансен, отпивая из фляги, его голос стал тише, почти задушевным. — В нашей работе нет места для сомнений. Гестапо не любит тех, кто колеблется. Они видят предательство в каждом шаге.
Ханс кивнул, чувствуя, как его сердце колотится, словно пытаясь вырваться из груди.
— Но если человек верно служит стране, ему нечего бояться.
Хансен улыбнулся.
— Именно так, Зейдлиц. Именно так. Но жизнь — штука сложная. Иногда приходится делать выбор, ради чего ты действуешь. Ради Германии, ради фюрера… или ради чего-то другого.
Ханс сделал глоток воды, чтобы выиграть время, и ответил, стараясь держать голос ровным:
— Мой долг — служить Германии, герр полковник. И выполнять приказы.
К вечеру, когда солнце окрасило лес в золотисто-янтарные тона, Хансен объявил конец охоте. Они собрали снаряжение, закинули винтовки на плечи и двинулись обратно к машине. Ханс помог загрузить вещи в багажник «Опеля».
Обратная дорога в Берлин прошла в тишине, гул мотора «Опеля» заполнял пустоту. Хансен курил ещё одну сигарету, огонёк её кончика светился в сгущающихся сумерках, как маяк в ночи.
— Хороший день, Зейдлиц, — сказал он, когда они подъехали к городу, его голос был почти дружеским. — Повторим как-нибудь.
— Буду рад, герр полковник, — сказал Ханс. — Спасибо за приглашение.
Хансен высадил его у дома, «Опель» растворился в ночи, оставив лишь запах выхлопа. Ханс стоял на тротуаре. Он взглянул на окна квартиры, где горел одинокий свет, мягкий и тёплый, как надежда. Клара ждала, не ведая об опасности, подступающей с каждым его шагом.