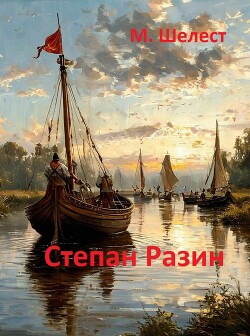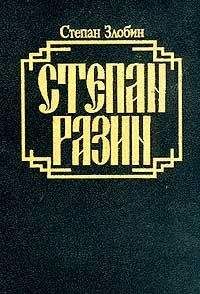Степан Разин. 2 (СИ) - Шелест Михаил Васильевич
К шестьдесят пятому году на Ахтубе на ста километрах жило более ста тысяч жителей. А это — около десяти тысяч дворов. Каждые пятьдесят дворов давали одного рекрута. И значит у меня в строю постоянно находилось две тысячи солдат — пехотинцев, или, вернее — драгун. То есть, пехотинцев, передвигающихся на лошадях. Много мы коняшек забрали у калмыков. Много и калмыков примкнуло к нашим поселениям.
Больше всего нас порадовали калмыцкие коровы. Это были такие экземпляры, что им могли бы позавидовать селекционеры гораздо поздних веков. Вес самых крупных бычков достигал девятисот килограммов. И неприхотливы они были, как и сами калмыки: приспособлены к резко континентальному климату с жарким сухим летом и холодной зимой, хорошо использовали зимние пастбища. Коровки к тому же были способны к интенсивному отложению жира, как резерва питательных веществ для использования в период бескормицы.
Откровенно говоря, пришествия такого количества поселенцев на Ахтубу я не ожидал. Ещё не наступил переломный шестьдесят шестой год, год вселенского собора, после которого должен был начаться вселенский же исход, а земли на Ахтубе уже не хватало. Конечно, можно было разрабатывать леса, но я опасался перейти точку невозврата в истреблении растительности. Леса и так активно таяли и мне приходилось лично контролировать вырубки.
Пришлось развивать территории по Ахтубе значительно выше от Селитренного, а для того снова рубить лес и копать землянки, полуземлянки и каналы. Дело в том, что выше Селитренного километрах в тридцати Ахтуба — примерно сто тридцать километров — практически полностью пересыхала, расплываясь по долине. И чтобы использовать земли полноценно, надо было рыть каналы, а голландцы у меня «закончились». А я не хотел делать большой разрыв в поселениях.
Пришлось просить воеводу Царицына Андрея Унковского разрешить поставить городок вблизи Царицына на левом берегу Волги у истока «Моей Реки» и отдать сей городок под управление Тимофею. Не мог я разорваться, мотаясь по Волге-Ахтубе четыреста километров.
Вот там оно — в местечке, которое мы назвали «Ахтубинск» и «рвануло». Не заморочился я обеспечением кадровыми политруками, понадеявшись на «надёжных» казаков. А те «надёжные и проверенные» казаки оказались наиболее вспыльчивыми. Имелся среди них такой Васька Ус, что был моим, то есть, Степкиным дружком и товарищем с детских лет. Не разлей вода мы были с ним в Измайлове, но наскучило ему исполнять царские хотелки и развлекать царя на пьянках и гулянках. Отпросился он от меня на Волгу к Тимофею и проявил себя, как лихой и дерзкий казак.
И вот теперь, воспользовавшись тем, что Тимофей оставил его на ближней Волге за старшего, а сам пошёл на Каспий, Васька Ус, наслушавшись пришлых, «гонимых за старую веру», взбеленился, поднял казаков и пошёл по Волге вверх на Москву. Вроде как «записываться в казаки».
Надоело ему, видите ли, быть непонятно кем под моей рукой. Захотелось быть записным казаком, на службе царя и воевать с Поляками. Вообще-то Васька постоянно ныл за то, что он, как баба сидит у печки, а не воюет. И ведь, паразит такой, был допущен мной и к тайным операциям на Волге и Каспии и знаниям о местах, где была схоронена казна казачья. Были на Волге такие глухие места в камышах, что сам чёрт запутается.
Вот там Тимофей и делал тайные схроны, где можно было бы либо спрятаться и переждать любую «бурю», либо спрятать нужное. Такие же места имелись и на Каспии. Много где мы с Тимофеем и братьями золото-бриллианты запрятали до лучших времён, о которых я им пророчествовал и которых они ждали со страхом.
Вот про пару таких тайных схронов и знал Васька Ус — паразит. Знал но не вскрыл по дороге в Москву. Но не пустили его с челобитной к царю, хотя сумел он дойти аж до самой Коломны. Да прихватили Ваську тамошние воеводы «за жабры», ибо не было у Васьки Уса заветной грамоты с моей печатью.
[1] Реальные слова патриарха Иосифа.
Глава 9
Казаки, что расселились с давних времён в нижнем течении Дона, теперь получали «корм» из Москвы, и выполняли необременительную службу, заведённую ещё со времён царя Ивана Васильевича. Служба была простой: разведка и охрана рубежей, встреча и проводы государевых послов.
Царское жалованье сначала выдавалось в Москве. Теперь казаки получали его в Воронеже. За свою работу казаки получали хлеб, которого не выращивали на Дону вплоть до конца семнадцатого века. Кроме этого им выдавались деньги, порох, свинец, оружие и другие воинские припасы, столь необходимые казакам в их нелегкой боевой жизни. В начале семнадцатого века жалованье делилось на две тысячи человек, а к середине описываемого века эта цифра возросла до пяти тысяч.
Но на Дону скопилось гораздо больше казаков, чем приходило царского довольствия. Оттого у меня и получилось «оттянуть» на себя войско, численностью более двадцати тысяч казаков. Да по тому, что из царской казны приходило всего двести тонн хлеба. Разделив на всех, мы бы получили, едва ли, по десять килограмм зерна на человека на год. Сорока килограммов на год тоже катастрофически не хватало, и потому казаки промышляли набегами на ногайцев и калмыков, и грабежами некоторых русских поселений, представляясь теми же калмыками и ногайцами.
Так было и на Запорожье, где казаки просили Польского короля и гетмана содержать их, как войско, и на других окраинах Руси, но такой огромной армии на постоянном содержании не могло позволить себе ни одно государство «современности». Однако все правители понимали «требования момента» и стремились организовать «своё хозяйство» оптимально.
Просто, русский царь двигался вперёд в развитии государственности согласно советам и рекомендациям не очень сведущих «доброжелателей», а я — строго, как учила экономическая наука: теоретическая[1] и практическая[2] экономики: выбор метода использования ресурсов и правильное их распределение.
Даже мои казаки из числа воспитанных мной руководителей умели считать свои ресурсы и сводить дебет с кредитом. Я видел в глазах своих кошевых работу мысли и расчётливость, вот главное, что я добился за эти двадцать лет своего упорного труда по воспитанию кадров.
А паразит Васька Ус, мной с детства опекаемый, так и вырос в того Ваську Уса, про которого я читал в исторической литературе: взбалмошного и своенравного гордеца, который и взбаламутил «того» Стеньку Разина на восстание против царской власти. А сейчас я стоял перед выбором, выручать Уса из под нависающей над ним угрозы, или наступить на товарищество и подавить зреющее на Дону восстание, так не нужное мне сейчас по причине несвоевременности.
— Ведь этот паразит, вероятно, ограбил схрон с кладом, — думал я, — раз теперь собирает вокруг себя казаков в Черкасах. Иначе, на какие шиши?
Весной шестьдесят шестого года из-за неурожаев в некоторых уездах на Дону начался голод. Вот Васька и воспользовался этим, приехал на Дон и казаки, жившие по Хопру и Иловле, выбрали Василия Уса своим атаманом на Дону. Заручившись их поддержкой он изготовил челобитную — благо писал отменно — и поехал вверх по реке. В Воронеже на переговорах с воеводой Василием Уваровым притворно-смиренно просил пропустить к царю в Москву депутацию из шести своих людей. Уваров пропустил.
Прибыв в Москву, казацкая станица двадцать второго июня подала царскому правительству челобитье с просьбой послать казаков на войну с поляками и выдать им жалованье. Однако русско-польская война уже оканчивалась, и пополнения в армии более не требовались. Царское правительство предписало отряду Василия Уса немедленно вернуться на Дон и по пути не сманивать за собой служилых людей.
Не дождавшись челобитчиков двадцать шестого июня казацкий отряд Василия Уса выступил из-под Воронежа и продолжил своё движение на север. По пути к ним примкнули беглые солдаты, крестьяне и холопы с юга страны. Мятежное движение стало быстро разрастаться, охватив не только Скопинский, Дедиловский, Крапивенский, Каширский, Серпуховской и Соловской уезды.