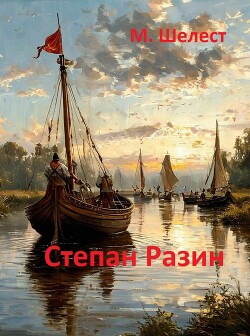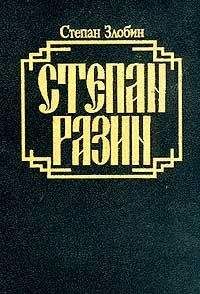Степан Разин. 2 (СИ) - Шелест Михаил Васильевич
— Это какой Паисий, не Легарди?
— Нет, того запорожцы по нашей просьбе отослали.
— А что этот приехал? Денег просить?
— Обо всём ты догадываешься, всё-то ты знаешь, Степан, откуда? Ты провидец?
— У кого уши есть — да услышит.
— Ну-ну…
— И что — Паисий?
— Указал патриарху Московскому Иосифу на несогласие в чинопоследованиях и обрядах Московской церкви с греческой.
— Что я и говорил! — хмыкнул я. — Пустил ты, государь, козлищ в огороды свои. Будут сейчас ездить и смущать твоих митрополитов и, главное, станут подыскивать того, кого можно на патриарший трон поставить, чтобы тот сломал веру русскую, человека властного и страстолюбца, кого можно было бы прельстить гордыней патриаршей власти.
— И что делать с этими козлищами? Не прогонишь же? Патриарх ведь всё-таки. В Троице-Сергиев монастырь просится посетить. Пускать ли его?
Я вдруг заметил в тоне Алексея Михайловича вкрадчивую интонацию и почувствовал опасность.
Опустив перед царём глаза, я произнёс.
— На всё твоя воля, государь. Не мне советы давать. Я говорю, то, что думаю, о чём переживаю. Авось тебе, государь пригодятся мои мысли. А кого куда пускать, то твоё дело, государево.
Царь смотрел на меня со странным выражением на лице. Вроде как не веря мне. Потом мотнул головой.
— Один ты против веры Константинопольской и против их обрядов. Почему?
— И совсем я не против их веры. Мне всё равно. Одно я знаю, что книги для Киевской церкви переписали всего-то десять лет назад. И кто переписал?
— Кто?
— Иезуиты переписали. А что в старых книгах было?
— Что? С интересом вопросил царь?
— Этого не знаю, не читал, но слышал, что было то, что в наших книгах сейчас есть. Почему сотни лет всё было в порядке, и, вдруг, стало не правильно? А чтобы смутить умы православные, вот для чего. Чтобы нам сказать, а вот наши книги, а у вас всё не так!
— Ты точно знаешь⁈
— Что?
— Что священные книги в Киеве переписаны только десять лет назад?
— Даже меньше.
Царь снова забарабанил пальцами по столу.
— Ладно. Думать стану. Поспать бы сейчас.
— Постелю? — отозвался я.
— Постели и раздень. Славно отобедали. Благодарствую за угощение. И как ты справляешься без слуг?
— В походах слуг нет, — усмехнулся я.
Где-то я читал, что Адольф Гитлер начал репрессии против евреев потому, что его спровоцировали к этому англо-саксы, которые преследовали этим несколько целей: первая — переселение евреев на территории, которые в последствии стали Израилем, вторая — обогащение. В той же статье говорилось, что Соединённые Штаты в середине тридцатых годов ввели политику «радикального ограничения еврейской иммиграции».
Но, как всегда цинично, созвали конференцию «по вопросу о еврейских беженцах». Президент Рузвельт не намеревался снимать ограничения и приглашать беженцев в Америку. Однако он верил, что сможет убедить другие страны щедро открыть свои границы и в то же время показать себя человеком, который заполучил необходимую поддержку.
Эвианская конференция проходила с 6 по 15 июля 1938 года. В ней приняли участие делегаты из 32 стран. Франция, Англия, Дания, Норвегия и Бельгия прислали своих представителей.
Участники конференции придерживались той же позиции, что и ее организаторы. Почти все солидарно печалились о судьбе евреев в Германии и подчеркивали необходимость поиска решений. Однако ни один из них не предложил ощутимой помощи от имени своей страны.
Один за другим делегаты объясняли, почему именно их страна была вынуждена отказать беженцам. Из всех 32 стран, ощутимую помощь — и прием целых 100 000 беженцев — объявила только маленькая, бедная Доминиканская Республика.
При чём тут обогащение? Да при том, что миграция всё-таки была, но стоила евреям очень дорого.
Вот и я, размышляя о судьбах России после ожидаемого раскола, понимал, что бегущие от репрессий староверы заселят «украинные» территории: Терек, Урал, Сибирь, Дальний восток. И без этого массового переселения расширение Русских владений было бы намного более затяжным. А Камчатку и Приморье Россия могла бы вообще потерять. Аляску, опять же…
Чей это был замысел? Ведь староверов гнобили, почитай, сотню лет.
Вот и думай теперь, где благо и кому благо? А без этой подставы дали бы иезуиты развиться России? Большой вопрос. Ввели бы очередные санкции с железным занавесом, как ещё при Иване Грозном, и кабдза.
Ведь иезуиты потом заполонили Россию. Особенно, когда их попёрли из Европы и когда их «приютила» Екатерина Вторая — просветительница. Зато, какой прогресс. Правда, вере православной пришёл полный кабздец. Синод, доносы исповедников на тех, кто злоумыслил на государя… И что мне, пытаться изменить эту историю? Изменить царя Алексея Михайловича, который и был инициатором церковной реформы, а не Никон. Патриарх — пешка в большой игре. Только вот в чьей? Думается — боярина Морозова. Да и какая разница. Мне под колёса истории ложиться не хотелось.
Государь, слава Богу, меня ни в чём злонамеренном не заподозрил. И разговору нашему большого значения не придал. У него, действительно, было столько советников, что я легко терялся среди знатных и более настойчивых личностей. У Алексчея всё меньше и меньше было времени. Проходил собор ежедневно, хотя государь и не всегда присутствовал на заседаниях Верхней Палаты. Боярская дума и высшее духовенство «рулили» под надзором «ревнителей благочестия», в котором выделялся архимандрит Никон.
Он ещё в шестьсот сорок шестом году явился в Москву и предстал пред молодым царём. Представил его Стефан Вонифатьев — духовник царя и царю Никон, своими рассуждениями, понравился. И что мне было делать? Убеждать царя, что Никон «плохой»? Не-не-не… Увольте-увольте.
У Алексея был, кроме меня, другой «фаворит». Хотя я себя его фаворитом не считал, да и молодой царь тоже не успел проникнуться ко мне «пиететом». А вот Фёдор Ртищев, став дворянином в шестьсот сорок пятом году, когда его отца Морозов вызвал в Москву, был приближен к Алексею, тем же Морозовым. Вероятно в противовес мне. И Ртищев Алексею понравился. Его поставили в «комнате у крюка», то есть во внутренних комнатах при государе и они с Алексеем быстро сдружились. Осенью тысяча шестьсот сорок шестого года Ртищев занял должность стряпчего с ключом, то есть дворцового эконома.
То есть, я старался царю показываться на глаза меньше, а Ртищева, наоборот, «засвечивали». Морозов, думаю, знал о моих предупреждениях,переданных Алексею Михайловичу, и старался отдалить больно умного крестника от главы государства.
— Да и Бог с ними, — думал я. — Мне бы только день простоять и ночь продержаться.
Думал, и тихо «ковал» своё будущее.
Глава 7
В январе сорок девятого года собор принял «Уложение», очень походившее на свод законов уголовного, гражданского и конфессионального права. Пава церкви сильно ограничили, розыск беглых крестьян объявили бессрочным. Моё предложение о введении земельного налога, не приняли. В марте Иерусолимский патриарх Пиасий назначил Никона митрополитом Новгородским.
Помимо всех официальных властей, царь Алексей Михайлович возложил на Никона наблюдать не только над церковными делами, но и над мирским управлением, доносить ему обо всем и давать советы. Это, как я знал из «прошлого» будущего, и приучило Никона заниматься мирскими делами. Подвиги нищелюбия, совершаемые митрополитом в Новгороде, увеличивали любовь и уважение к нему государя. Когда в новгородской земле начался голод, Никон отвел у себя на владычном дворе особую палату, так называемую «погребную», и приказал ежедневно кормить в ней нищих.
Примерно с начала сороковых, как я узнал недавно, царь Михаил Фёдорович в очередной раз задался целью создать армию нового строя. Денег на нововведение не было и царю посоветовали освободить от подати южные территории, такие как: Воронеж, Белгород и другие. Туда нагнали оставшихся в России после русско-польской войны тридцатых годов, немцев и заставили их строить полки по иноземному.