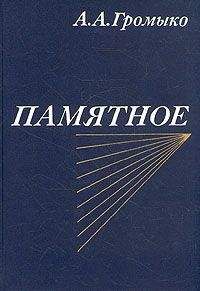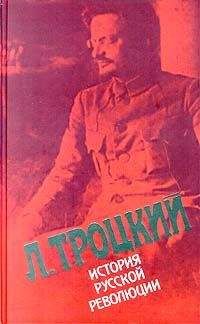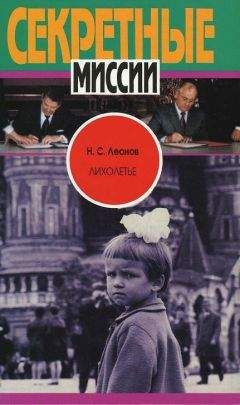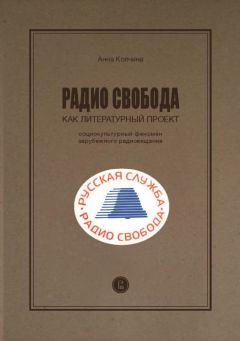Господи, напугай, но не наказывай! - Махлис Леонид Семенович
Цып-цып, мои цыплятки,
Цып-цып-цып, мои хохлатки,
Вы, пушистые комочки,
Мои будущие квочки.
Мой талант лежал в области художественного слова. Во втором классе мне пророчили будущее Качалова или, на худой конец, Левитана. Последнее пророчество почти сбылось. Взрослые рано обнаружили во мне декламаторские способности, однако, стеснительность побуждала увиливать от участия в художественной самодеятельности. Я без труда заучивал заданные на дом стихи и прозу, делал это всегда, ибо знал, что меня обязательно спросят, чтобы поставить в пример другим, как надо читать «с выражением». Если же меня все-таки привлекали к участию в праздничных утренниках (в качестве конферансье или чтеца), то я усердно репетировал перед зеркалом, как перед воображаемым залом, чтобы преодолеть смущение. Это помогало. Даже выбор репертуара мне доверяли — после моей поздравительной речи Галина Николаевна считала меня идеологически надежным. И я с упоением читал:
— Белеет парус одинокий в тумане моря голубом…
Музыка слова проникала глубоко и волновала. Я увлекался и через минуту забывал о смущении. Я даже полюбил это занятие.
Тетя Маня поощряла мое увлечение, полагая, видимо, что оно не таит в себе явной опасности моему драгоценному здоровью. Тут она, пожалуй, заблуждалась. Но кто даже при самом буйном воображении мог представить, что тридцать лет спустя лишь счастливая случайность оградит меня от верной гибели при взрыве 20-килограммовой бомбы, установленной в аккурат под моим кабинетом на радио «Свобода». Органы безопасности ФРГ никогда не найдут террориста, но след протянется через Санчеса Ильича Карлоса (Шакала) к Лубянке.
ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ
Половое воспитание шло через пень колоду. Проще говоря, никого эти глупости не волновали. До всего приходилось добираться самому. Родителям и учителям следить за нашей нравственностью — было плевым делом. Фиговый листок наклеивали на две самые чувствительные зоны моего тела — глаза и уши. Он начинал опасно трепыхаться из стороны в сторону во время дружеских застолий, особенно когда в них участвовал дядя Бузя-сапожник. Тетя Маня, трясясь от смеха, скашивала на меня испуганный взгляд и молила:
— Ой, остановите уже его, он же мне ребенка испортит!
Я начинал более пристально прислушиваться, но в этот момент Бузя переходил на идиш, и я оставался ни с чем.
Проблема запретного плода понималась тетей Маней буквально, и настоящие санкции и репрессии распространялись только на те плоды, которые могли вызвать понос. Я и сегодня считаю такой подход здоровым и благоразумным. Никто не морочил мне голову аистами и капустой. Тетя Маня никогда этого не допустила бы: птицы — разносчики заразы, а капуста в доме легализована только в обработанном виде. Где это видано, чтобы ребенка искали в борще или в кадушке с соленьями? Капустная версия происхождения больше занимала тех, кто ее озвучивал, чем меня. Я, как и все нормальные дети, жил завтрашним днем, а не вчерашним. Куда интересней было докапываться, не откуда я вышел, а куда приду.
Телевидение еще не начало свое победное шествие по городам и весям. Секс и насилие прокладывали к нам дорогу другими путями: самые отчаянные сексперты притаскивали в школу порнографические снимки или репродукции со старинных пикантных открыток, купленные старшим братом на барахолке, подсовывали их для обозрения тихоням и отличницам, которые, не успев оправиться от шока, сдавали казанов школьному начальству, за сим начинались репрессии. Учителя не очень задумывались над тем, как научить детей сочетать в жизни удовольствие с человеческим достоинством, пить из источника наслаждений и при этом не загрязнять его. Да и знали ли они об этом? Наверное поэтому память сохранила один-единственный эпизод, довольно поздний, когда в мое сексуальное воспитание свою лепту внесла (хоть и косвенным образом) учительница литературы. В 8 классе, стоя у доски, я рассказывал о том, что было после того, как Павка Корчагин вошел в судомойку. Учительница прервала мой ответ:
— Леня, в твоем возрасте пора было бы знать, что из судомойки можно только выйти.
Вопрос, на мой вкус, был спорным, но я не стал отстаивать свою правоту, тем более, что в классе никто не «въехал» в смысл возражения и не улыбнулся. Учительница рисковала. Если бы ее замечание дошло до директора, ей бы несдобровать.
Накопление сексуального опыта шло стихийно — кому как повезет. Большим везением считались естественные или просверленные дырки и щели в смежных туалетах и душевых. «Взрослые» книжки доступны — было бы желание. Но главный университет — это улица. Однажды мне выпало подлинное счастье. «Прежние хозяева» нашей квартиры в целом неплохо позаботились о нашем удобстве — в квартире было все — от изумительных кафельных печей под потолок до бронзовых дверных ручек и сколоченных на века цветочных ящиков на балконе. Единственное, чего я не мог им простить, так это отсутствие басовитого тиканья напольных, ну на худой конец настенных часов с золотым маятником. Такие часы были и у дяди Наума-трикотажника, и у дяди Бузи-сапожника, и у дяди Бори-часовщика. А еще квартира была без ванны. Поэтому купаться мы ходили к тете Жене и дяде Науму Побережским на Кутузова. Здесь меня ожидало двойное удовольствие — в ожидании своей очереди я мог вдоволь погарцевать на коне-качалке с настоящими хвостом и гривой из конского волоса, бешеными глазами и оскаленными зубами, к которым я предпочитал не прикасаться. На всякий случай. До сих пор не понимаю, почему это произведение искусства досталось от поляков Побережским, у которых не было маленьких детей, а не нам. В один прекрасный день (да будет он благословен в веках!) ритуал был нарушен ремонтом их квартиры. После долгих колебаний («фу-у-у, там же можно самую страшную заразу подцепить») тетя Маня объявила мне, что мы идем… в баню. До тех пор «баня» была мягким ругательством и меньше всего ассоциировалась с местом, где люди смывают недельную грязь. Когда на кого-то в доме сердились, то посылали «в баню» или грозили «устроить баню». Но ходить добровольно в баню!.. Мыться рядом с чужими людьми в этом рассаднике антисанитарии!.. Так распахнулись передо мной настежь «тайные врата небес, и вода в кувшинах стала слаще». Тетя Маня все еще считала меня несмышленышем и не очень задумывалась над последствиями. Главное — чтобы ребенок был чистым. Я никогда еще за все семь долгих лет моей жизни не мылся с таким наслаждением, максимально затягивая процесс. Сколько открытий! Сколько впечатлений! Бедная, наивная тетушка. Разве могла она догадаться, что завтра в школе я стану героем дня? Что с этого момента я буду с брезгливостью и высокомерием отклонять подрумяненную фотопорнуху как жалкий суррогат подлинного Знания? Я молил Бога, чтобы ремонт на Кутузова продлился как можно дольше, и не мог дождаться следующего воскресенья. И наконец, дождался.
— Ну, хватит спать, Фертлоф! Завтрак на столе. А потом пойдем с тобой в баню. — Услышал я сквозь сон голос… дяди Яши. Так меня изгнали из рая, вернее, из его лучшей половины.
ВСЕ ПОДСУДНО
Праведный гнев Усовой я вызывал лишь моими бесконечными опозданиями. Не было испытания более невыносимого, чем просыпаться в предрассветные часы. Даже сейчас я готов отдать полжизни за лишние полчаса утреннего сна. В школу я прибегал уже после звонка. По реакции Усовой на мое появление класс безошибочно угадывал ее настроение.
Проступки, за которые на нас рушились наказания, не вместить ни в один уголовный кодекс, в то время как разнообразием наказаний не баловали. Их было не больше, чем египетских казней. Самое страшное преступление — размалевывание учебников. Основоположников я невзлюбил за то, что им нечего было пририсовывать — все и так носили или бороду или усы. Или и то и другое. Правда, можно было пририсовать Карлу Марксу фашистскую офицерскую фуражку или Ворошилову фашистскую (а то какую же?) каску. Мы не портили учебники — мы дописывали историю. А заодно создавали некую субкультуру, уводящую тоскливые догмы в зону туманного, но веселого хаоса. Родители почему-то били за это смертным боем. Но все остальные портреты я вдохновенно разрисовывал, не считаясь с авторитетами и законами эстетики. Галина Николаевна регулярно отбирала размалеванные учебники и требовала, чтобы к следующему уроку были куплены новые — наказание не столько для нас, сколько для родителей — учебники входили в список дефицитных товаров.