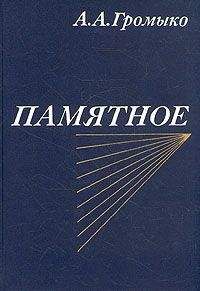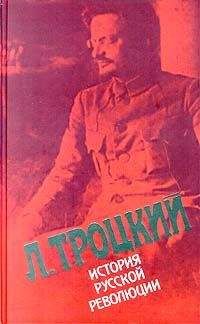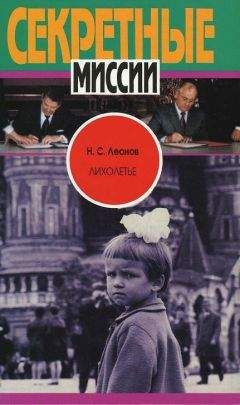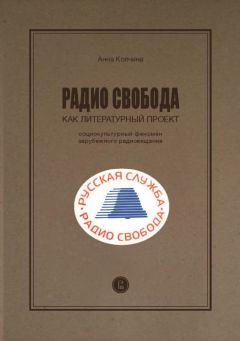Господи, напугай, но не наказывай! - Махлис Леонид Семенович
— Тогда знаете что, женитесь на моей маме. Она вас никогда не бросит.
— Я не могу, она старше меня.
— А я никому об этом не скажу, честное слово — никому.
Слово «душа» редко достигало наших ушей. Разве что в составе малопонятных идиом, вроде «душа нараспашку» (читай дурак). Я знал, что в душу можно плевать, что ее можно продавать, выматывать, ну разве что еще открывать (но этого делать почему-то не советовали). Этого слова избегали не только по идеологическим мотивам, но и по причине сложности его определения в педагогических терминах. Но разве легче объяснить «частную собственность» или «социализм», или «партия»? Ведь никто не искал доступного для наших мозгов определения «любви», но каждый с младенчества безошибочно распознавал это чувство.
Вспоминается хасидская притча о мудром раввине и его ученике.
«— Ребе, я вас люблю. — Признался ученик.
— А ты знаешь, что причиняет мне боль? — спросил мудрец.
— Нет, ребе, не знаю.
— Как же ты можешь любить меня, если не знаешь, что причиняет мне боль?»
Рассказывают, что кто-то спросил Микеланджело, каким методом он пользовался, работая над Моисеем. — Это очень просто, — ответил он. — Берете кусок мрамора и отсекаете от него все, что не похоже на Моисея.
Наши учителя были великие ваятели. Они точно знали, что отсечь.
Правда, сегодня мне уже известно, что если что и спасет мир, то не сострадание. В 1983 году на Филипинах, поверженный тамошней нищетой, я подарил 20 долларов повстречавшейся мне семье — трое голодных ребятишек и их родители, жившие в конуре посреди поля, пробивались тем, что подбирали колосья. Мой мотокули отругал меня:
— Никогда не делайте этого. 20 долларов — их годовой доход, при здешних нравах за такие деньги муж может жену прирезать.
ЕХАЛ ГРЕКА ЧЕРЕЗ РЕКУ
Я закончил 3 класс, и меня перевели в 27 школу. До войны школа носила имя королевы Ядвиги, еще не причисленной к лику святых (это случится только в 1997 году), а в 2015 школе присвоят имя героя «Небесной сотни» Юрия Вербицкого. Тетя Маня считала 14 школу хулиганской и боялась, что меня там покалечат. Она изложила свои доводы директору новой школы Анне Филипповне Солоп, которая успокоила тетушку: до этого года школа была женской, мальчиков пока мало, но все из хороших семей.
Новая учительница, седенькая старушка Лариса Макаровна встретила новичка приветливо, указала на свободное место и — о чудо! — моим соседом по парте оказался Толя Лущин. Его родители тоже убрали сынишку подальше от греха.
Мы дружили много лет. Окончив школу, он дважды пытался поступить в медицинский институт во Львове, но оказалось, что даже еврею туда легче пробиться, чем «москалю», да еще и «сектанту». Но он твердо решил изучать медицину. Блата и денег не было. Кто-то посоветовал поступать в Средней Азии. Он уехал в Душанбе. Спустя без малого 30 лет после нашей последней с Толей встречи, воспользовавшись плодами либерализации в СССР, я побывал во Львове и разыскал однокашников. От них я узнал, что Анатолий Константинович Лущин заведует медицинским пунктом Киевского аэропорта. Я набрал номер. Вялая беседа закончилась 116-м предложением создать совместное предприятие по схеме «бензин ваш, идеи наши». Грустно, девушки.
В тот же приезд я посетил и свою первую школу. В учительской меня приветствовала женщина со строгой улыбкой. На ней была такая же блузка с галстучком, какую носила Галина Николаевна. Тот же всепроникающий и всепонимающий взгляд, строго рационированная доброжелательность, тот же наклон головы, под рукой стопка ученических тетрадок, ожидающих прикосновения наманикюренного пальца…
Я представился, сказал, что интересуюсь судьбой моей первой учительницы.
— Усова?! И зачем это вам понадобилась эта сталинистка?
— В то время, когда я с ней познакомился, все были сталинистами.
— Она и сейчас не лучше, — парировала собеседница и приоткрыла дверь, за которой возила шваброй женщина в синем халате. — Шура, у тебя есть телефон Усовой, ты, кажется, у нее прибираешь?
— Вы хотите сказать, что она здравствует? — удивился я.
— Она нас всех переживет.
Встреча с детством прошла буднично. Старушка жаловалась на здоровье, на то, что ее все забыли.
— Ну вот я же вас помню. — Возразил я.
— Я бы вас пригласила, но я нездорова. Как-нибудь в другой раз.
Войдя заново в ту же реку, я решил не останавливаться на достигнутом и предложил бывшей однокласснице Виктории Трубицкой собрать всех, кто еще в пределах досягаемости, в ресторане по их выбору. В пределах оказались 10 «девочек», которые договорились встретиться без мужей. 11-я — Наташа Смоляр — была незамужней. Поэтому она задержалась в парикмахерской и пришла с опозданием на час, но зато в золотом комбинезоне. Пили, главным образом, водку за тех, кого нет с нами. С нами не было многих. В конце посиделок я пригласил Наташу танцевать. Положив голову мне на плечо, слегка охмелевшая «девочка» распахнула душу:
— Слушай, а ты действительно учился в нашем классе? Ты симпатичный, но я тебя в упор не помню.
СМИРЕННЫЙ БУНТАРЬ
Мои воспитатели не боялись держать меня в ежовых рукавицах, не боялись лишиться моей любви. Их педагогическое кредо было — «лучше когда плачет ребенок, чем родители». Уютный, ухоженный, добротный мир становился мал, а опека все более обременительной. Редкие встречи с братом-погодкой будили мысль о существенном отставании в информированности и житейских познаниях.
Вторая пара родителей успела подготовиться к моему «предательству». За пять лет до бунта у них родилась Зиночка. К роли старшего брата я так и не привык. Защищать ее было не от кого. Девочка росла нежным и добронравным существом. Улыбка никогда не стиралась с ее личика. Такой и осталась навсегда, передав эту улыбку по наследству своей дочери.
В какой-то момент я начал различать не только запах фиалок, но и запах свободы, а главное — понял, что у меня, в отличие от остальных детей, есть выбор.
Восстав против домостроевских порядков, я однажды позвонил в Москву и, услышав звонкий, цветистый голос мамы, объявил — хочу «домой», на историческую родину, в Москву. Тетя Маня сказала, что отговаривать меня не станет, хотя считает мое решение ошибочным, что там мне не смогут уделять столько внимания и что, когда я это пойму, то дорога назад всегда открыта. В 6 класс я пошел уже в Москве.
САМ НЕ СВОЙ СРЕДИ СВОИХ
Чума 20 века — это не спид, не наркотики, не детская болезнь левизны. Подлинная чума — это тяга к идентичности, непреодолимая, сладкая потребность примкнуть к каким-нибудь объединениям, братствам, землячествам, к бегу в упряжке с тупым МЫ-чанием с кем-нибудь — с соседями, собратьями по диагнозу, по цвету кожи, по территории, политическим целям, половым признакам, национальным идеям, и даже с бывшими солагерниками («Колымское землячество»). Эта болезнь не только безнадежно фрагментировала наш мир, не только породила субкультуры и тайные общества, затормозившие эволюционный процесс, но и унесла сотни миллионов жизней в бессмысленных войнах, геноцидах, дворовых поножовщинах.
В уставах бесчисленных «алумней» можно начитаться такого, что, как говорят в Одессе, «на голову не налазит». То, что при Пушкине называлось «лицейским братством», благополучно вытеснено рокерами, потомками купцов, казаками с нагайками, добровольцами-пожарниками, союзами писателей. Все они без устали куют свои доминантные культурные коды, позволяющие отделить «чужих» от «своих», маркируют свою территорию.
Выпускники Принстона или Гарварда до конца жизни не снимают пузатые перстни, поддерживают, как могут, деятельность своих almae matres, а подчас даже жертвуют или завещают им целые состояния. Самые продуктивные объединения — по культурно-территориальному признаку, вырвавшиеся на международный уровень, как, например, «Всемирный клуб одесситов». В России возникла большая литература, защищающая, «корпоративную» честь «птенцов гнезда Петрова.