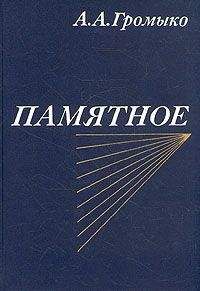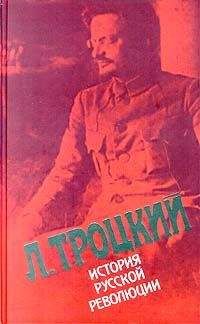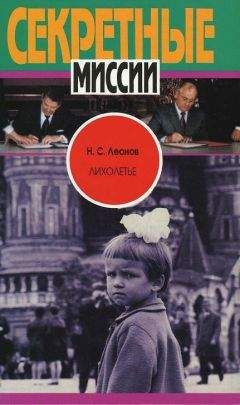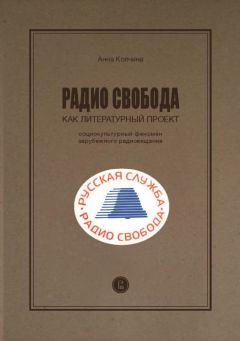Господи, напугай, но не наказывай! - Махлис Леонид Семенович
Приученный к сдержанности, я нервно реагировал на необузданный темперамент чад и домочадцев, на вербальную распущенность, царившую в доме. Правда-матка истекала кровью. Ее резали вдоль и поперек невзирая на лица, на чувства оппонента или случайного свидетеля распри. Брат и сестра боролись за свои права (как они их понимали) бунтарскими средствами, а я — выжиданием и терпеливостью, тем, что люди называют «себе на уме». Некоторое время я мог позволить себе такую роскошь — ведь мне было, куда отступать. У старших такая опция отсутствовала.
Любимчиков в семье не было. Разве что брата любили особой, скорее мужской любовью — за его исключительные способности. Нас же с сестрой — просто за то, что мы есть. И Алла и я были равнодушны к похвалам, да и внешних поводов для восторгов давали меньше. Жизнь была непростой. Но мы научились самостоятельно искать выход из любой ситуации, не привлекая родителей, по принципу — «лучше зажечь свечу, чем ругать темноту». Ругать темноту — удел мамы.
Наш мир был экспериментальной лабораторией, где истинно лишь то, что ново. Новые слухи, идеи, друзья, ботинки, книги, журналы пробуждали энтузиазм и надежды. Никаких традиций, доктрин, ритуалов, обеденных часов, никакой косности, канонов, семейных советов, стратегических планов. Слово «дисциплина» — синоним диктатуры. Да здравствует анархия! Все остальное вызывало зевоту. Даже бензин для выведения пятен соседствовал с уксусом в кухонном шкафу в чекушке из-под… уксуса. Ритуальными были только ссоры родителей.
Если мама сердилась на кого-то из нас, а я высовывался со своими аргументами, она реагировала просто и прямодушно: «А ты вообще молчи!» Я не обижался на дискриминацию — ясно, что мои доводы были неприемлемы, но неотразимы.
В школе и во дворе беспощадно обижали. Здесь уже ничто не напоминало той семейной дворовой атмосферы, какая была «у нас на Франка». Да и сами игры были другие. На Страстном больше дворового пространства. В центре пыльного, загазованного двора стояли качели, которые мы использовали преимущественно для игры в «жопки» или «сиськобол» — модификация русской лапты. Этого пространства хватало даже для игры в «чижика». «Чижик» тоже отдаленно напоминал лапту, только вместо мяча использовался деревянный брусок, заточенный с обоих концов, и бита.
Меня хватило на полгода. В январе 1957-го я вернулся во Львов. В свой дом. В свой класс. Словно и не уезжал. Но раздвоенность не исчезла. Напротив, она продолжала нарастать. И в июне я вновь принес свои документы в школу на ул. Москвина, но уже в соседнюю, 170-ю.
ТРУДНОВОСПИТУЕМЫЕ РОДИТЕЛИ
Более несхожих натур, чем мои родители, я не встречал. Трепетная и ранимая у мамы, доминирующая и самоуверенная у отца. Приоритеты отца лежали за пределами домашнего очага. Он не мыслил жизни без тусовок, выражаясь современнным языком. Юбилейные торжества, застолья, славословия и памятные подарки ценились как шанс быть замеченным и отмеченным. Домой он приходил поздно и лишь затем, чтобы отдохнуть от возлияний, выспаться и переодеться в свежевыглаженное. Отец благообразен, худощав, сдержан и ироничен. Молва не уставала напоминать, что мы с Аллой похожи на отца. Меня этот факт оставлял равнодушным и не мешал восторгаться красотой и молодостью мамы — эталона женственности. Но меня пугала в ней взрывоопасная чувственная смесь из любви, щедрости, страхов и ранимости.
В родовом сходстве — мистификация и трюкачество природы. Мы с братом словно с разных планет. Он бескомпромиссно похож на маму: монгольские лучистые глаза с маслиничным отливом, смолистые блестящие волосы, каждый — толщиной с копье. Я подозревал, что он был не прочь поменяться со мной внешностью, ибо сызмальства боготворил отца. Но почему-то при всей нашей непохожести в жизни малознакомые люди нас то и дело будут путать и принимать одного за другого.
Семейная жизнь шла у них через пень-колоду. Неудовлетворенность мамы выливалась в шумные разборки с припоминанием отцовских грехов — прошлых, настоящих и будущих. Сценарии мы с братом знали наизусть. Благодаря этому иной раз нам удавалось смягчить разгул страстей, кипевших на Страстном, театральными этюдами «по мотивам». Когда обстановка накалялась до критической температуры, мы перехватывали инициативу и доводили распрю до абсурда, превращали драму в водевиль, вдохновенно доигрывая роли за них. Родители получали уникальный шанс увидеть себя со стороны. Оба замолкали, из последних сил стараясь не рассмеяться, а нас уже нельзя было остановить. В конце спектакля отец, давясь от смеха, нервно перебрасывал беломорину из одного угла губ в другой, а мама, сверкая подобревшими глазами, произносила:
— Ну, детей надо иметь? Камни надо иметь. В печени!
Разрядка доставалась дорогой ценой. Нас самих выдумка не развлекала — воистину смех сквозь слезы. Мы-то знали, что завтра отец уйдет на работу, а мы останемся со своими проблемами дожидаться нового взрыва, новых травм. И мама, ища у нас поддержки, будет рассказывать нам все, что ей довелось пережить, брезгливо произносить имена незнакомых нам женщин (образные эпитеты предпочту опустить), которые «10 (15, 20, 30) лет пили ее кровь и кровь ее детей».
Случались дни, когда светлый Ангел спускался на землю — отец вдруг появлялся дома в 6 часов вечера, посылал нас с братом выгружать из сверкавшей никелем «Победы» коробки с крабами, балыками и прочими заморскими ананасами. Мы изумленно переглядывались, когда мама называла его Сенечкой, а Сенечка зорко следил, чтобы кто-то из нас ненароком не нагрубил маме. Малейшее подозрение на непочтительность к ней влекло строгий окрик, а то и предупредительную «оплеушку». На длительную обиду времени не оставалось. Да чего там, мы готовы были стерпеть сотни оплеух и покачаться вдобавок на дыбе, ради того чтобы эта семейная сказка не кончалась подольше. Пристроившись на диване, отец разворачивал газету и включал радио, которое никогда не слушал, но и выключать не разрешал, точно боялся пропустить сообщение ТАСС о снижении цен или амнистии. Через две минуты он уже мирно храпел, а покрывавшая его газета с каждой новой руладой вздымалась над ним, как белый парус. А на кухне в этот миг разворачивался во всем своем великолепии кулинарный гений мамы. Не проходило и часа, как на столе возникала куриная шейка, печеночный паштет со шкварками и любимое лакомство Сенечки — латкес, картофельные оладьи с хрустящей корочкой. Затем все вместе будили отца, и начинался семейный праздник.
В эти минуты мы были готовы признать в отце нашего учителя, старейшину и вождя племени. Этот день, если удавалось дотянуть его до конца в мире и благочестии, становился нашей Субботой, святой минутой, украденной у Вечности и контрабандой втащенной в наше скромное жилище.
Жизнь отца и матери была огранена войной. Для отца, прошедшего всю войну и дослужившегося до майора, это было время активной самореализации. На фронте вступил в партию, из которой его погнали в 59 году. Близость к генералитету обеспечивала ему известное влияние, которое он с успехом использовал и в послевоенные годы. К 80-м годам, когда вымерли старые большевики, и их место в патриотической обойме заняли ветераны, отец стал истым общественником, заседал в полудюжине комиссий при Всесоюзном комитете ветеранов, и даже ночью неохотно расставался с пудовыми орденами, значками, медалями, планками. Незадолго до смерти ему было пожаловано звание подполковника в отставке.
Маме же война принесла сплошные страдания. Под бомбами пешком с трехлетней дочкой уходила она из обреченного Львова, где ее застала война (решила погостить у сестры). Именно во время войны она чуть не каждый год рожала и теряла детей, отчаянно боролась за их жизнь. В мае 45-го пришла весть о гибели единственного брата. Зяма Болотин, Гвардии рядовой, погиб на четвертый день Берлинской операции. Половина семьи ее матери — расстреляна немцами или не вернулась с фронтов. Страх перед войной и потерей близких людей сопровождал ее до конца. Когда в 1994 году мамы не стало, я выгрузил из ее шкафов вырезки из газет и отрывных календарей, которых хватило бы на полновесную антологию — стихи о войне и утратах. Другая половина ее архива — сгодилась бы для антологии о материнской любви и любви к матери. Я не одну ночь мял в руках эти бесформенные пожухшие листочки, догадываясь, увы, слишком поздно, как мало ей было нужно от нас, выживших благодаря ее бессонным ночам, и как много мы ей недодали, занятые своими повседневными делишками.