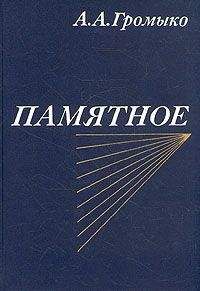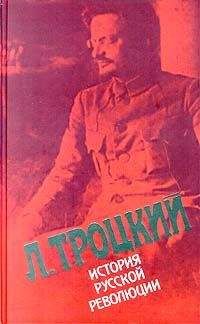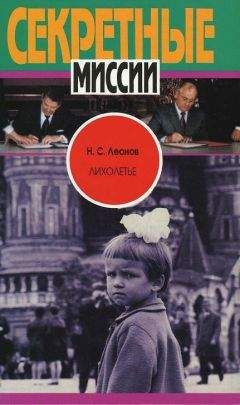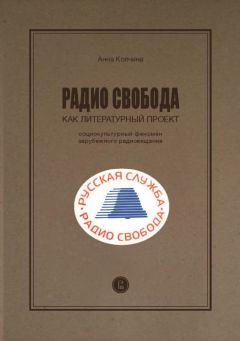Господи, напугай, но не наказывай! - Махлис Леонид Семенович
Но на следующий день жизнь уже шла своим чередом. Апокалипсис был отменен. Земля не сошла с орбиты. Все вокруг даже как-то оживились. Чаще других звучало непонятное слово «амнистия». Но заговорили разом и о политических переменах, о наследниках, спорили, кто из них более достоин высокой чести: Каганович — это голова, а вот Маленков — это не голова. 12-летний Владимир Буковский в те дни подслушал такой пассаж:
— За кого теперь пойдут умирать? За Маленкова, что ли? Нет, за Маленкова народ умирать не пойдет!
Про «дедушку Сталина» еще какое-то время слагали стихи, а нас заставляли эти стихи учить наизусть. Но на моей повседневной жизни турбулентность тех дней мало отразилась. Врачи, которым тетя Маня доверяла изучение моих анализов, никоим образом не были замешаны в зверских убийствах партийных деятелей (об этом я тоже слышал от взрослых) и блестяще справлялись со своими обязанностями. В доме, как и прежде, переходили на шепот при упоминании евреев, а за его пределами — как и прежде, такие упоминания вызывали грязную брань.
И никто не мог мне объяснить, почему такого великого человека называют таким грязным словом — «вошть».
НАПЕРСНИК БОГОВ
Культ личности Галины Николаевны достиг своего апогея осенью 1953 года, и я сыграл в этом не последнюю роль.
В тот день Усова пришла на занятия в приподнятом настроении, гладила по голове каждого, кто попадался под руку, была необычно терпелива с нами и даже дважды собственноручно выводила в уборную бедного Прашутю. В конце последнего урока все открылось. За пятнадцать минут до звонка загрохотали зеленые крышки парт — класс приветствовал вставанием директора школы. Встала и Усова. Затянувшаяся пауза подчеркивала торжественность момента. Затем директор заговорил, время от времени ласково поглядывая на Усову. Так мы узнали, что наша Галина Николаевна стала орденоносцем, что нам повезло, что вся школа и весь город гордится нашей учительницей, что отныне мы должны еще больше уважать и беречь ее. Потом он расцеловал Усову, мы хлопали в ладоши, а Галина Николаевна прослезилась.
Наутро в газете «Львовская правда» был опубликован список награжденных учителей области. Нашей выпал орден «Знак почета» 1 степени. Дети явились в школу с цветами и конвертами. В конвертах были открытки или записки с поздравлениями от родителей. Дети по очереди вручали Усовой ношу и тихо возвращались на свои места. Когда подошла моя очередь, я приблизился к столу со своим букетом, но без конверта. Не выпуская из рук букета, я потребовал тишины.
— Дорогая Галина Николаевна, от своего имени и по поручению моих родителей, я от всей души поздравляю вас с высокой правительственной наградой…
Я говорил громко без запинки минут пять, в точности воспроизводя конспект вчерашней газетной статьи, отредактированный дядей Яшей и выученный перед сном наизусть. Мое обращение произвело такое впечатление, что мне тут же было поручено повторить концертный номер на общешкольном торжественном собрании. Речь изобиловала газетными штампами, произнесенными так же естественно, как «мамо, насыпьте борщу». Знай родное правительство еще и об этом успехе скромной классной руководительницы 2-го «А», Усова получила бы не один, а целых три ордена. А я начинал осознавать, как неправ я был накануне, когда попытался уклониться от этой чести. Но дядя Яша, мой мудрый ребе, сказал:
— Послушай, Фертлоф, моего совета, если ты хочешь, чтобы когда-нибудь я прислушивался к твоим. Галина Николаевна — твоя учительница, а учителей надо уважать. Мы евреи, а для евреев нет человека достойней учителя.
Цадик Яков — сама справедливость и перфекционизм. На цадиков традиционно смотрели лишь как на добросовестных посредников, способных найти мудрое решение спора, забывая об их божественной миссии, искре Божьей. Потому они и перевелись ныне.
Это была моя «бар-мицва» (о которой ни я, ни мои сверстники тогда слыхом не слыхивали) — церемония приобщения мальчика, достигшего 13-летнего возраста, к еврейской общине в качестве полноправного ее члена. К этому событию ребенок готовится целый год под руководством ребе. Завершается она первым публичным выступлением с речью и чтением Торы. Конечно, сравнение советских газетных текстов с Торой кому-то может показаться кощунственным, но, учитывая, что эти тексты, как в свое время и Тора, отражали господствующую в обществе идеологию и что до еврейского совершеннолетия мне оставалось еще пять лет, а на подготовку бенефиса ушло всего пару часов, вполне можно говорить о моем раннем идеологическом созревании. На общешкольном собрании моя речь прозвучала еще более внушительно, а рукоплескания я уже с полным основанием отнес на свой счет. Усова расцеловала меня и на следующий день — о, чудо! — поручила МНЕ сбегать во время урока в учительскую за забытым классным журналом. Неделей позже мне было поручено поднести букет цветов почетному гостю, ради которого даже отменили последний урок. Старый большевик, лысый, но с пышными усами рассказывал, как в Гражданскую рубил на котлеты белых и даже дал желающим потрогать ржавую шашку, которую принес с собой, любовно завернув в бархатную тряпицу. (Через четыре десятилетия я и сам окажусь в его роли — роли музейного экспоната. Я вернусь после 20 лет в эмиграции в новую Россию, и меня пригласят в московскую школу рассказать «за жизнь» и о моей «борьбе с коммунизмом». Ни лысины, ни зазубренной шашки при мне, правда, не окажется. Но зато будет весьма пикантная деталь: инициатором этого приглашения станет не партком, а ученик этой школы — внук бывшего, но еще здравствовавшего председателя КГБ Владимира Семичастного).
Я стоял на пороге карьеры. «Наперснику богов не страшны бури злые».
На этом, пожалуй, и закончилось мое домашнее идеологическое воспитание, если не считать бронзовые профили вождей над старинным («поляки бросили») секретером. А мое следующее публичное выступление прозвучит двадцать лет спустя в Канаде на 3-тысячном митинге в защиту советских евреев.
МАКОВ ЦВЕТ
С общественной деятельностью до самого конца моей школьной жизни дела обстояли неважно. Активистов готовили сызмальства. Я, наверное, действительно не очень подходил на роль звеньевого или председателя совета отряда. Все дело было в авторитете. С этим было совсем плохо, потому что я, во-первых, не решался нарушить домашний запрет и не играл в футбол, а во-вторых, не вышел ростом. Единственное, на что я худо-бедно годился, — стенгазеты и праздничный фотомонтаж. Из старых «Огоньков» вырезались подходящие к случаю фотографии, наклеивались на ватман, обводились красной тушью. Рисовать я не умел. Дальше носатых, бородатых профилей в фашистских касках и фуражках дело не шло. Но когда бросали на оформление стенгазеты, мой талант раскрывался полностью: пирамида мавзолея или шпиль Спасской башни — не бог весть какие шедевры, но нужная запись в характеристике была обеспечена. Главное — не жалеть красной туши. Функция цвета в нашей жизни была строго утилитарной.
День седьмого ноября — красный день календаря.
Посмотри в свое окно — все на улице красно…
Красный цвет преобладал, несмотря на то, что он противен природе. И в моих любимых стихах этот цвет отсутствовал. Вообще с цветами творилась полная неразбериха. Наставники делили мир на два стендалевских цвета — все, что не было красным, считалось черным. За пустячный проступок — забытый в спешке пионерский галстук — таскали к директору, стыдили перед классом, допрашивали с пристрастием, напоминали о героях, спасавших, рискуя жизнью, от врага полковое знамя, которое, как нам всем было известно, «с красным галстуком цвета одного».
С художественной самодеятельностью проблем не было. Артистов хоть отбавляй. Правда, их репертуар из года в год оставался неизменным — все наши юные гении — скрипачи, пианисты, флейтисты, певцы — учились у одних и тех же учителей. Вот и несся с импровизированной сцены (актового зала в школе не было) «Петушок», плавно переходящий в «Польку-бабочку». Все было по-настоящему. На сцену вспархивали две косички с газовыми бантами. Девочка уверенно направлялась к пианино, кланялась, умиленные учителя сдвигали ладошки, взглядом призывая нас следовать их примеру. Аплодировать в такт было интересней, чем слушать петушка. Встречались и подлинные самородки. Их эксплуатировали беспощадно. И тогда даже самые нехитрые мелодии превращались в шедевр, который хотелось слушать без остановки. Мальчик-азербайджанец Алик, что жил напротив нашего дома, сводил с ума и детей и взрослых: