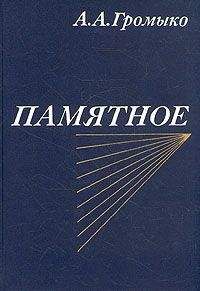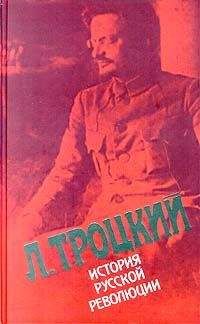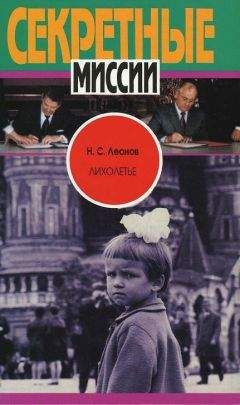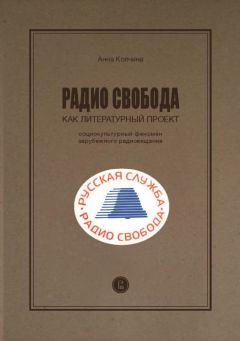Господи, напугай, но не наказывай! - Махлис Леонид Семенович
— Молодец, Левит! Ни один еврей не бегал во Львове так быстро после 1939 года.
Смысл «комплимента» прояснился для меня значительно позже. Саша рос, не обращая внимания на подворотню, продолжал ставить рекорды, бегать, прыгать, плавать вплоть до самой смерти, которая настигла его в 30 лет.
УСОВА
1-а был многоголовым гомогенным организмом. Только случайные, из ряда вон выходящие обстоятельства позволяли узнать, что думает или чувствует твой сосед по парте, как он живет, что его радует или угнетает. 30 хамелеонов, с молоком матери впитавших искусство камуфляжа своей индивидуальности. Правда, иногда помогали учителя — им одним доступным способом они выявляли будущих лидеров, отличников, звеньевых, председателей и сажали их на заметные места. Учителя поручали им задания, предполагавшие повышенное доверие, или просто гоняли во время урока в учительскую за забытым классным журналом и за мелом. А возможность «законно» провести часть урока в коридоре или забежать в буфет — поднимала их престиж. Вместе с запахом горячих пончиков и клюквенного киселя они вдыхали волшебный, сладостный аромат привилегий. Если учительнице необходимо было удалиться из класса во время урока, одному из любимчиков предписывалось занять место за учительским столом и вслух читать «Муму» или «Подвиг пионера». Однако, едва закрывалась дверь, начинался ералаш, в который каждый вносил посильную лепту — одни размалевывали доску, другие устраивали дуэли, третьи запускали бумажные планеры. Тряпка для вытирания доски, долетев до потолка, с омерзительным звуком приземлялась на лоб чистенькой первоклассницы, оставляя на долгую память крошки мела. Бумажные снаряды, выдуваемые из металлических трубочек, поражали все живое, что попадалось на пути. Скромняга Мишка заталкивал под рубашку мешки для галош, вскакивал на учительский стол и вопил, подражая грудастой училке:
— Дети, повторяйте за мной: «мы писали, мы писали, наши пальчики устали».
Но уставшие пальчики уже купались в чернильницах, чтобы затем оставить дактилоскопические оттиски в дневнике соседа по парте.
Комната наполнялась визгом девочек, прижатых в угол двумя-тремя садистами. В разгар веселья раздавалось истошное «Атас!» — и через секунду все оказывались на местах, изображая на лице кротость и прилежание.
— Как ты думаешь, Владимир Ильич тоже таскал улиток в портфеле? Отвечай!!
Галина Николаевна Усова — так звали мою первую учительницу — считала этот элегантный педагогический прием убедительным и неотразимым.
Тихони раздражали Усову не меньше, чем проказники. Она требовала отвечать на ее вопросы громко и отчетливо, почти по-военному, даже если вопросы были интимными и не относились к уроку. Особенно тяжко приходилось Виталику Прашутя. Мальчик страдал энурезом и часто становился жертвой болезни прямо на уроке. Жестокость одноклассников не знала границ. Насмешники доводили мальчугана до истерик. Его мать, известный в городе педиатр, часто появлялась в школе и инструктировала учителей, но ничто не могло изменить его незавидной участи. Усова каждые два часа спрашивала Виталика, не хочет ли он выйти в туалет. Делала это громко, назойливо и даже, как мне казалось, с плохо скрытой насмешкой, которая тут же передавалась гонителям мальчика. Виталик краснел, чувствуя на себе взгляды, и отрицательно качал головой. Усова повторяла вопрос, поднимая голос и привлекая внимание все большего числа ребят до тех пор, пока не заставляла Виталика громко рапортовать о своем самочувствии. Класс уже улюлюкал.
Тихоней я не был, но часто бывал скованным и стеснительным, из-за чего кругом терпел убытки и унижения. Более ловкие и агрессивные ровесники без труда оттесняли меня в играх, соперничестве за расположение учителей и дворовых вожаков-покровителей. От первого я страдал, а к роли любимчика и активиста был попросту равнодушен.
Были свои любимчики и у Галины Николаевны. Она поручала им собирать деньги на культпоходы, пожертвования на малопонятные нужды школы. Усова заботилась об их авторитете, «рекомендовала» на выборные классные должности. Усова отличалась постоянством привязанностей. Пышная Шурочка Розенштейн и вихрастый Вова Голубков сидели на одной парте, подпиравшей учительский стол, и были готовы каждую минуту выполнить любое новое задание партии и правительства. Оба отличники. Оба первыми подносили Усовой цветы в день ее рождения (об этом Усова заблаговременно оповещала класс), первыми поднимали руки на уроках, словом, были во всем первыми, к чему, собственно, и призывали нас наставники. Остальные должны были оставаться послушной массой. Все как в большой жизни.
Лидеры были ладными, чистыми, красивыми. Если Шурочка или Вова обнаруживали на указательном пальце чернильное пятно, они немедленно поднимали незапятнанную руку, держа грязную на весу, подобно раненным бойцам, чтобы получить разрешение выйти помыться.
Мне не приходилось сидеть на задних — «ослиных» партах, куда устремлялись двоечники, втайне надеявшихся, что здесь они станут невидимками. Но и первые парты, зарезервированные учителями для отличников «боевой и политической подготовки», то есть будущих лидеров, меня не привлекали. Как «твердый хорошист» я предпочитал слиться с основной массой без всякого ущерба для несуществующих амбиций.
Дома меня воспитывали в авторитарном духе почитания классного руководителя. Других учителей при мне могли критиковать и даже ругать последними словами. Доставалось даже директору школы. Но классный руководитель непогрешим. Долгое время я смотрел на Усову как на сверхчеловека, непохожего ни на родственников, ни на знакомых, как на божественного посредника между мной и огромным, неведомым миром. Даже представить себе не мог, что волевая, грузная, с рябоватым, как пористый шоколад, лицом и зычным голосом, Галина Николаевна обладает теми же свойствами, что и другие люди, — ест, пьет, сморкается и, упаси, Господи, ходит в уборную. Ее величие было незапятнано, как и белоснежная блуза с галстучком, в которой она являлась на работу. Харизма ее была так велика, что даже директор перед ней трепетал.
Но особенно любила она культпоходы — слово, рожденное в белой горячке века. Один из них оставил глубокий след в моей душе и памяти. В театре «Юного глядача» шла постановка «Снежной королевы». Крикливые актеры, по гениальной задумке режиссера, время от времени обращались к юным зрителям, вымогая у них дружное поощрение положительных персонажей и осуждение злодеев. Я знал сказку наизусть и смотрел с интересом, но без аффектации. И вдруг я, как заколдованный Кай, почувствовал укол в сердце. Это произошло в тот момент, когда маленькая разбойница обнялась с Гердой. Братание добра со злом. То ли неокрепшее зло дало слабинку, то ли наивное добро потеряло бдительность, но в моем бело-черно-красном сознании произошло короткое замыкание. Значит, и со злом можно договориться по-хорошему. Вон даже Баба Яга иногда помогает незваным гостям, вместо того, чтобы лакомиться ими после баньки. Накупив в антракте монпансье и клюквы в сахарной пудре, я забился в дальний угол и впервые задумался над конфликтом без подсказки извне.
Дорога в 14 школу была нехитрой — пройти надо было каких-нибудь 400 метров вверх по Институтской. Я знал на пути каждый обвалившийся угол, каждый куст, каждую щель в заборе. Тем не менее бабушка ежедневно плелась в гору, чтобы меня встретить, вызывая насмешки одноклассников и даже Усовой.
— Вон Лёнина бабушка на всех парусах несется. — Сообщала она, глядя в окно в конце последнего урока под веселый гогот одноклассников.
С бабушкой мы не ладили. Усовой это было известно, но она не обременяла себя тактичностью и прочими интеллигентскими предрассудками:
— Завтра праздник. А ну-ка улыбнулись. Леня, а ты почему хмурый? Не выспался или бабушка тумаков надавала?
Бабушкина опека не оставляла никакого просвета для самостоятельных поступков. Я бунтовал. Она жаловалась. Когда к ее жалобам дома перестали прислушиваться, она решила действовать через «партячейку». В один прекрасный день бабушка явилась в школу и потребовала провести со мной воспитательную работу. Галина Николаевна велела мне задержаться после уроков. Когда мы остались вдвоем, учительница долго поправляла неизменный черный галстучек на блузке, подыскивая мысленно подобающий к случаю педагогический прием. Когда с галстучком было покончено, она, наконец, произнесла тихим, но строгим голосом: