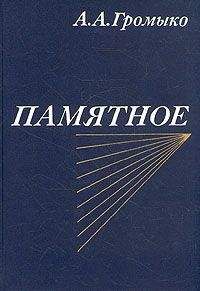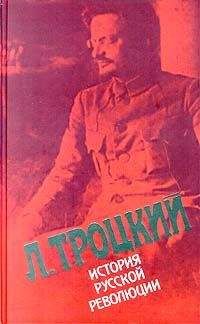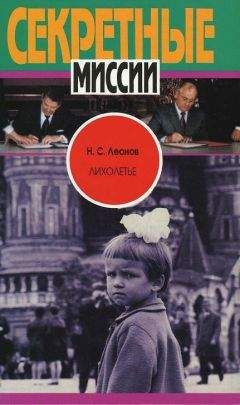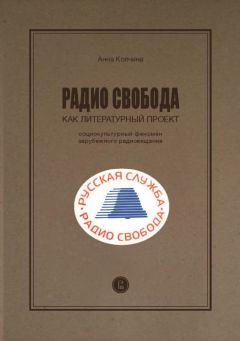Господи, напугай, но не наказывай! - Махлис Леонид Семенович
— Что, Зяма, кугочки хочешь? — состязались юные пионеры в погромном фольклоре.
(Да я, если хотите знать, терпеть не могу курятину и брынзу, кстати, тоже не перевариваю, сало люблю с соленым огурцом и картошку в мундире. А Зяма — это не я, это мамин брат-танкист, его немцы убили под самым Берлином, две недели не дотянул до победы. Не знаю, как у него с дикцией было, но на одно ухо он не слышал, это точно. Обманул комиссию, сказал, что воспаление, пройдет, мол. Но вам же на это наплевать. У вас руки чешутся.).
— Сколько вгемя? — изгалялся конопатый босяк. И сам же ответил: — Два еврея. Третий жид, по веревочке бежит. — Они уже пританцовывали в такт частушке от предвкушения расправы.
— Что, Абраша, лечиться приехал? Сейчас мы тебя вылечим — ни одна больница не примет. — Распалялась компания. В воздухе запахло кровью. Защиты или помощи в этот раз ждать неоткуда. Но по опыту знал — могут и не тронуть, так, поизгаляются, повыпендриваются друг перед другом. Но и прирезать могут — недорого возьмут. (Я одного такого встречу через много лет в эмиграции. После срока в детской колонии выехал по «еврейской» визе. На вопрос — за что сидел, гордо ответствовал — «за политику — пионера-еврейчика ножом пырнул»). Тут-то от страха я и брякнул такое, за что сегодняшние «патриоты» простили бы мне не только кукугузу, но и распятие Христа, и кровь христианских младенцев и отравленные колодцы.
— Между прочим, — сообщил я юным петлюровцам дрожащим голосом, — Ленин тоже был евреем.
Грубая политическая ошибка. Кампания оторопело переглянулась, но замешательство длилось недолго. То ли за то, что вождя оклеветал, то ли за то, что слишком много знаю, но свою первую «хрустальную ночь» я провел в санчасти детского санатория (одна больница все-таки приняла), где мне вкатывали противостолбнячные инъекции и щедро вымазывали йодом ссадины.
Интересно, под какую статью угодил бы я, будь я в тот день лет на 10 старше? Мне рассказывали на Колыме о 16-летнем еврейском юноше. Одноклассники жестоко избили его. Он пришел с жалобой к директору школы. А через неделю, обвиненный в «терроре», он уже совершал свое первое кругосветное путешествие по ГУЛАГу с 10-летним приговором. Его видели в лагере им. С. Лазо неподалеку от Сеймчана. Эта история по датам совпадает с делом врачей (а значит, и с моим «подвигом»). Борьба с врачами, как и борьба с евреем, — русская народная забава. Враг должен быть узнаваем — непреложное правило всех идеологов ненависти. Вспомним прокатившиеся в конце XIX века по центральной России холерные бунты. В то время в деревнях свирепствовал голодный тиф, а с юга надвигалась эпидемия холеры. В простонародье давали свое объяснение санитарным мерам. Шел говор, что помещики, чтобы ограничить прирезку земли крестьянам, решили поубавить их число. Для этого подкупили докторов «травить народ». Началось с убийства какого-то подростка, которого приняли за фельдшера. Затем убили врача. И пошло… НКВД объединил жертв в цельную мишень — в эдакий союз «врача и кагала» — тут уж не промахнешься.
* * *
Таким образом, летняя закалка частично удалась. Вместе с противостолбнячным иммунитетом мне привили устойчивый иммунитет против фашизни, а заодно и полезное знание:
а) из меня никудышный агитатор;
б) нельзя оскорблять чувств оппонента;
в) надо держаться подальше от народа. Как декабристы, которым и это не помогло.
Увы, никто не знал, как долго такая прививка действует и каков ее побочный эффект. И 1 сентября 1952 года я благополучно влился в свой первый Коллектив.
Я ВЛИВАЮСЬ В «КОЛЛЕКТИВ»
Разве можно забыть волнительные хлопоты с покупкой портфеля, пеналов, тетрадок, ластиков, чернильниц и — кто может в это поверить? — собственных учебников. Эти сокровища я бережно пеленал в лучшую оберточную бумагу. Каждый загнувшийся листок или пятнышко вызывали щемящую боль. Ни пышный букет астр, приготовленный с вечера, ни праздничная суета в доме, ничто так не согревало душу, как новенький черный портфель с блестящим замком и учебники. Я с завистью разглядывал учебники старших ребят, завороженный длиннющими немыслимыми словами и числами, и мечтал о том дне, когда и мне раскроется таинственный смысл «тангенсов» и «гипотенуз».
Всю ночь портфель простоял у моей кровати. Я просыпался, нежно поглаживал его прохладную кожу и мечтал о новой, настоящей жизни. А школьная форма из темно-синего сукна, скроенная по военному образцу! Ее только что ввели (разумеется, в мою честь). Гимнастерка, правда, была длинновата и теплообмен в ней заставлял мечтать о холодном душе, зато в латунной бляхе ремня плясало солнце. Не зря я целый вечер полировал ее обувной суконкой. А ширинка на пуговицах, как у взрослых! Но главное — фуражка с лаковым козырьком! Да я в ней почти до среднего роста дотягивал! Кто был мне равен!
Все школы были похожи друг на друга. Усатые портреты смотрели на нас со стен, со стендов, со страниц учебников, по которым мы учились возносить молитвы живому богу. Везде ненавидели стукачей (откуда только они брались среди взрослых? Разве на сказано: «Соглядатаи не имеют удела в будущей жизни»?), везде издевались над евреями, везде находилась пара сочувствующих учителей, опекавших и оберегавших преследуемых, везде играли в одни и те же игры, везде «жали масло», притискивая тех, кто послабей, в угол… С орудовских картинок, развешенных в коридоре, нас грустно приветствовал покалеченный зайчик. Бедолага переходил улицу на красный свет, попал под трамвай и остался без ноги. Картинка должна была внушать ужас, но почему-то никого не трогала, мы по-прежнему обращали мало внимания на светофоры.
В первый же день мой лексикон пополнился новым словом… Нет-нет, то, о чем вы подумали, произошло намного раньше. Я говорю о слове «дефицит». Не верьте этимологам. Дефицит — это исконно русское слово. Я постиг его смысл задолго до таких слов, как душа, голубчик или порок. У каждого поколения — свой набор дефицитов. С интересом разглядываю на перемене портфель соседки по парте, разукрашенный переводными картинками. Картинки скучные, быстро облезают, захватываются. Меня не увлекает эта эстетика, но однокласснице все завидуют — картинки — дефицит, просто так за здорово живешь не достанешь. Нужны связи.
В этот же день мне снова напомнили о моем месте в обществе. В буфете продавали горячие пончики — аромат доползал до 3 этажа. Выстояв очередь, я уже выгребал из кармана денежку, когда почувствовал неслабый удар в ухо, выбивший меня не только из очереди, но и из физического (о душевном уже и не говорю) равновесия. Старшеклассники, стоявшие за мной, решили развлечься.
— Что, жидяра, всех кугочек перерезали, теперь пончиков захотелось? — гоготали они.
Я поступил так, как поступил бы на моем месте любой семилетний мальчик из интеллигентной еврейской семьи, — я заплакал. О пончиках и мечтать забыл. Утешение пришло неожиданно. От очереди отделилась высокая фигура. Молодой мужчина приблизился ко мне, его взгляд транслировал заряд угрюмой воли. Он заглянул в лицо и тихо спросил:
— Ты действительно еврей?
Я безнадежно кивнул и заплакал еще горше. Тогда он поднял меня под потолок на вытянутых руках и произнес, как заклинание, уже с другой интонацией, громко, на всю столовку:
— Запомни, Еврей, ты никогда больше не будешь плакать! Отныне ты будешь гордиться этим, а плакать будут твои враги!
Затем он вернулся к буфетной стойке, решительно отодвинул от нее всю очередь, потребовал у буфетчицы два пончика и стакан киселя. Человек усадил меня за стол, поставил передо мной тарелку и… исчез.
Так я выучил еще один урок — быть евреем почетно, но очень больно. А еще я понял, что быть евреем значит быть заметным. Или замечаемым. Все равно, как быть толстяком, или альбиносом или калекой. Скорее — и тем, и другим и третьим сразу. Даже если ты меньше всех ростом. На физкультуре мне так хотелось оказаться в шеренге хотя бы предпоследним, но я бескомпромиссно замыкал ее до тех пор, пока тетушка не выхлопотала для меня полное освобождение от этого унижения, правда, по другим мотивам («Они же там бегают, как угорелые, а ему потеть нельзя»). Может, потому я всю жизнь пестовал свою нелюбовь к спорту и строевой жизни. Нелюбовь эта послушно шагала со мной в ногу с пионерских линеек и уроков физкультуры до 4-й плуги (взвода) в Бат-Арба в Иудее, где я в возрасте Христа прошел свой первый и последний курс молодого бойца — тиронут. Зато мой друг Саша Левит славился на весь город своими атлетическими успехами. Во время очередного забега Саша, как обычно, пришел к финишу первым, что было воспринято присутствующими как оскорбление. Учитель физкультуры, приблатненный украинец из «местных», встретил его за ленточкой с восторгом: