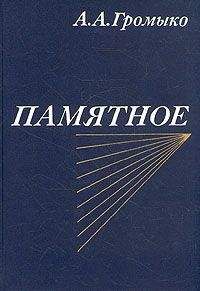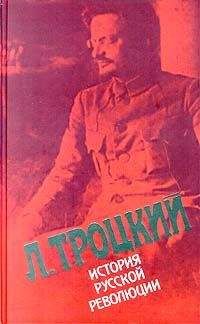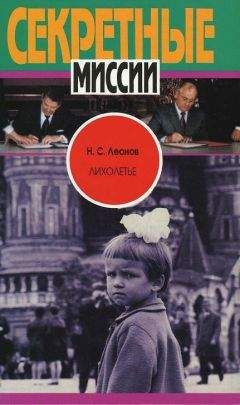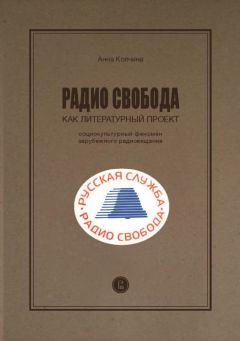Господи, напугай, но не наказывай! - Махлис Леонид Семенович
— Как ты думаешь, Павлик Морозов тоже грубил своим роственникам?
ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
Игру «в радио» я изобрел сам. Лет эдак в шесть. Для нее я не нуждался в партнерах, больше того, предпочитал, чтобы в этот момент я вообще находился в доме один. Держа в руках огурец (ложку, молоток, дверную ручку), модулируя голос под Юрия Левитана, я вещал с нашего балкона в импровизируемый микрофон всем, кто желал меня слушать, передовицы «Львовской правды» или «Вильной Украины». Убедительней всего звучали в моем исполнении праздничные призывы к трудящимся:
— Пусть растет и крепнет… пусть овладевают знаниями и технологией… пусть закаляется…
Мой выдающийся земляк Станислав Лем считал, что любовь к подражанию («обезьянничанье») является естественной фазой развития. На мой вкус, это несколько упрощенное объяснение, пригодное лишь для оценки поведения годовалых несмышленышей. Мне больше по душе теории некоторых современных психологов. Например, американки Норы Ньюкомб, которая уверена, что сознательное подражание свидетельствует о том, что ребенок имеет представление о цели, которую он хочет достичь путем подражательного действия. Моя профессиональная жизнь — лучшее подтверждение этому.
— Он хочет быть артистом. — С умилением констатировала тетушка, втайне надеясь, что я все-таки образумлюсь и стану врачом, и ей не будет больше нужды охотиться за чужими светилами, когда в доме есть свой.
— Кем ты хочешь стать? — обязательный вопрос при каждом контакте со взрослыми. Эренбург не раз признавался, что в детстве он мечтал стать чертом. Мой брат мечтал о профессии летчика (и стал им вопреки популярному самому короткому анекдоту — «еврей-летчик»). Бабушка настаивала на карьере музыканта, потому что еще никому в роду этого не досталось. А я хотел стать Левитаном. Будущее ребенка — это почти неизбежное поле столкновения отцов и детей. Причем отцы, как правило, оторваны от реальности куда больше, чем дети, которых вполне устраивает профессия собачьего парикмахера или конвоира. Да и сама жизнь не всегда справляется с этой трудной задачей. В результате, нам то и дело попадаются врачи, больше напоминающие следователей, музыканты — лесорубов, телохранители — киллеров, воспитатели — кинологов.
В моем случае судьба долго колебалась, не зная, кого поддержать, и, в конечном счете, сочла желания моих опекунов слишком завышенными. Бедная, бедная Махля Аврум-Янкелевна! Если бы она могла тогда вообразить, что всего через каких-нибудь 22 года она включит старенькую, чудом избежавшую конфискации радиолу «Мир» и услышит уже без натужных детских петухов:
— Говорит Радио «Свобода»… У микрофона Леонид Махлис…
В моих балконных проповедях было все — страсть, убедительность, идеологическая зрелость. Не хватало одного — правды жизни. Через пару лет я, наконец, обрету эту правду в театрализованных играх «в Кремль».
Сценой служил «черный» балкон — галерея, выходившая во внутренний двор и соединявшая нашу квартиру с квартирой Кочетовых. Как инициатор, автор сценариев и вдохновитель рискованной затеи я возлагал на себя корону великого кормчего, после чего раздавал моим партнерам — соседским ребятишкам — должности и звания, ордена и автомашины, приличествовавшие их таланту и индивидуальным особенностям, заставлял их докладывать мне по всей форме, замышлял и разоблачал заговоры и покушения.
Разумеется, не обходилось без мятежей и дворцовых заговоров. Так, например, в один прекрасный день вероломный Петька Кочетов, который благодаря мне уже побывал Ворошиловым и Молотовым, объявил, что он пресытился вторыми ролями и хочет тоже побыть генералиссимусом. Осмелевшие Буденный и Рокоссовский робко поддержали бунтаря. Мне предстояло нелегкое решение — либо уступить, согласиться на ротацию и тем самым отказаться от власти и подчиняться утырочным приказам, либо поставить под удар дело, лишив актеров творческого стимула.
Выручил коварный план, которым я без труда увлек ничего не подозревавших соратников. Присягнув на верность Петьке, я выхлопотал для себя роль железного Феликса. Затем я так лихо закрутил дворцовую интригу, что уже через полчаса Петькин собственный брат-близнец Юра безжалостно расстрелял Сталина, разоблаченного мной как самозванца и немецкого шпиона. Над Петькиным трупом я произнес вдохновенную речь о необходимости укреплять бдительность и пресекать происки врага. Я так увлекся своим выступлением, что не заметил, как наш балкон превратился в трибуну мавзолея, и я, возвысившись на табуретке, и перегнувшись через перила, уже нес слово правды в безучастные массы, пока они, растревоженные произведенным шумом, не начали проявлять к нам нездоровый интерес. Распахнулось окно Кочетовых, и тетя Люба, мать почившего вождя, вместо здравицы, крикнула: «Петька, Юрка, быстро домой», напомнив, что всякая власть все-таки ограничена.
Еще не остывший труп Сталина зашевелился. Дома Петька пытался оправдаться и уверял, что никакой он не шпион, что его оклеветали, и в следующий раз он расстреляет Дзержинского. Но до нового кровопролития не дошло. Сожалел я только об одном — как много мы еще не успели сделать для нашего народа и, в первую очередь — укрепить разведывательную службу системой раннего обнаружения родителей во время игр и вражеских лазутчиков, повадившихся в наш палисадник за спелой черешней.
В тот же вечер дядя Леша, Петькин отец, зачем-то приходил к дяде Яше. Когда он ушел, мне было объявлено, что я слишком много времени трачу на игры и мало читаю.
Генеральная репетиция прошла успешно. Мы сдали экзамен на соответствие культуре той эпохи, которая нас породила.
На следующий день по радио Юрий Левитан объявил, что умер Сталин.
НА ВОЛЬНОМ ВОЗДУХЕ
«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» — плакат украшал вход в школу и не казался чем-то особенным. Простое проявление вежливости. Если мое детство было счастливым, то за удовольствие надо благодарить. Меня учили этому дома. Правда, некоторая неудовлетворенность оставалась — почему я должен благодарить человека, которого никогда в глаза не видел. И как товарищ Сталин узнает о моей благодарности?
Трагический символ эпохи. 1952 г.
В тот мартовский день я пришел в школу без опоздания. Вместо старенькой вахтерши с колоколом в руке я увидел растерянно топтавшихся у входа зареванных учительниц, которые торжественно-приглушенными голосами шептали ученикам, что уроков не будет, а вместо этого будет общий сбор «на вольном воздухе» — во дворе школы.
Когда директор сообщил собравшимся, что в наш дом пришла общая беда, что беда эта непоправима и утрата невосполнима, учительницы дружно взвыли. Как дальше жить-то будем? Траурная музыка, раздававшаяся из всех репродукторов, вызывала нервный озноб, нагоняла страх. Команды отдавались оглушающим шепотом. На улице наша нестройная колонна смешалась с толпой граждан, которые то и дело сморкались, фыркали, размазывали по лицу слезы, причитали или просто смотрели в пространство невидящими глазами.
Митинг проводился в Парке культуры на улице Дзержинского. Толпа, развернутая по задумке организаторов лицом к Москве, стояла несколько часов с непокрытыми головами и дышала перегаром, то ли вчерашним, то ли свежим, то ли с радости, то ли с горя. Из черных репродукторов вперемежку с траурной музыкой перечислялись заслуги усопшего. Когда репродуктор замолкал, учащались всхлипывания и сморкания. Когда все слова были произнесены, над нашими стрижеными головами надрывно завыли сирены, смешавшиеся с вороньим граем, и люди стали медленно расползаться кто куда.
Через несколько дней позвонила мама. Жаловалась на гостившую в Москве бабушку, которая вознамерилась непременно лично попрощаться с отцом народов и чудом не поплатилась за это жизнью. От нашего дома на Страстном бульваре до Колонного зала Дома Союзов, где был выставлен дорогой труп, — рукой подать. Но даже помыслить нельзя было о том, чтобы продвинуться вниз по Пушкинской хотя бы на 10 метров. Но старая большевичка Клара Кривонос умудрилась пробраться почти до цели сквозь сплошную бурлящую массу плачущих паломников. Простояв безуспешно всю ночь у Колонного зала, домой она добиралась… по воздуху — конные милиционеры подняв старушку над толпой передавали ее друг другу до самой Пушкинской площади. До сих пор точно никто не знает сколько тысяч москвичей увлек за собой почивший бог.