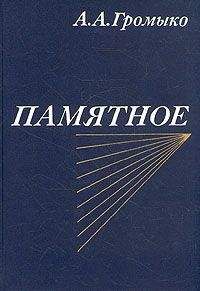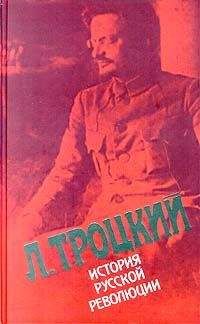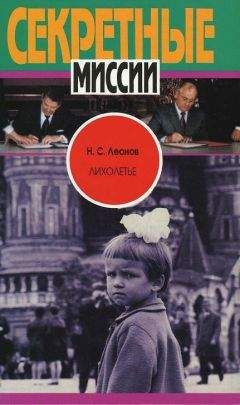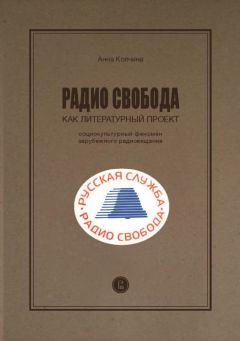Господи, напугай, но не наказывай! - Махлис Леонид Семенович
Аврум-Янкель Болотин
В 1919 году у Болотиных рождается дочь Мася (Ася), а годом позже — сын Зяма. Дав детям подрасти, Клара возвращается на фабрику, ставшую для нее вторым домом. Брак оказывается, увы, недолговечным, и в 1925 году Аврум-Янкель разводится с Кларой, и переезжает в Воронеж, где вскоре женится вторично. Клара остается с тремя маленькими детьми, которые растут в Торговом переулке, опекаемые многочисленной родней. Рухл и Шолом доживают свой век в Харькове по-прежнему в крайней нужде. Сыновья Аврум-Янкель и Сема пишут редко. Их сестры тоже оказываются не в состоянии скрасить последние годы жизни родителей. Старшая, Ида, осталась в Шумячах, где воспитывает четырех детей. Средняя, Берта, еще в 22 году покинула Россию и поселилась в Буэнос-Айресе, где доживет до глубокой старости в окружении многочисленных детей и внуков. Какое-то время от нее приходят письма и деньги. Последнее письмо, пришедшее после войны, вызвало непреодолимый страх перед возможными репрессиями из-за заграничных родственников, было уничтожено, и связь оборвалась. Почти полвека спустя, моей маме, поселившейся в Канаде, удастся разыскать тетку, но переписка вновь оборвется, на этот раз навсегда. А младшая сестра деда, Маня, умрет в 24 года, оставив двух маленьких детишек. В трудную минуту старенькая Рухл не гнушалась выйти на улицу с лотком, зарабатывая на хлеб продажей семечек и конфет. Только дети Клары и навещают стариков, пока в 1927 году мой прадед Шолом не умрет в возрасте 85 лет, а приехавший на похороны отца Аврум-Янкель не увезет овдовевшую Рухл в Воронеж.
Дед и в суровые послевоенные годы оставался верен своему кустарному ремеслу. Он прикупил хромоногую хатку на окраине Львова, набивал там щетки, которые сбывал местной артели или приторговывал на толкучке. Дедово ремесло казалось мне дивным искусством. Я все никак не мог взять в толк — как же все-таки проникают в эти крохотные дырочки ровненькие пучки конского волоса. И ведь не вываливаются, словно дед заколдовал их. В 60-е это искусство пережило новый бум. На фоне всеобщего дефицита и упадка на Украине и на гребне артельно-колхозных послаблений наблюдалось явное перепроизводство этого товара. Кустари вынуждены были расширять рынок сбыта, мотаться по республике от Одессы до Конотопа. Одесситы даже создали своеобразную биржу труда. Вербовали рабочих «на щетки» и возили по артелям в разные города. Редкая еврейская свадьба обходилась тогда без незатейливой песенки «Бершталах» («Щеточки»), придуманной и введенной в арсенал еврейского самодеятельного «фольклора» одесской достопримечательностью Фимой-почтальоном.
Жил в Одессе набожный еврей,
Делать мог он только лишь детей.
Взоры взирал он в небо,
Не имел куска он хлеба
Для себя и для семьи своей.
Оказалось, Бог на свете есть,
Он не дал еврею умереть.
Он послал ему работку —
Делать для колхоза щетки
И впоследствии разбогатеть.
Щеточки, щетки, мой папа говорил,
Что спрос на вас он в целом мире
Удовлетворил.
Щеточки, весело с вами мне сейчас,
Я памятник тому воздвигну,
Кто придумал вас.
Щеточник Аврум-Янкель Болотин, переживший три войны, а с ними и двух сыновей, Гришу и Зяму, был уже староват для такого размаха. Зато он дожил до полета человека на луну.
Я видел его в последний раз в июле 1969 года. Мы оба тогда притихли у телевизора, следя за комичными прыжками Армстронга, и смотрели с раскрытыми ртами сенсационный репортаж. Я тронул деда за рукав засаленного пиджака:
— А что, ты согласился бы вот так слетать на луну, если бы тебя очень попросили послужить науке?
Он подумал самую малость и категорически отверг дурацкую идею:
— Ну, посуди сам, кому там нужны мои щетки?
В конце жизни Аврум-Янкель женился на хмурой украинке лет 30, которая помогала в деле, присматривала за нехитрым хозяйством и даже родила ему еще двух дочерей. Младшая — Соня появилась, когда деду было 72.
«ДЭУС, ДЭУС, КУС МАДЕУС»
Взрослые наивно думают, что дети не способны страдать и мучиться, что они могут только резвиться, гоняться за бабочками да крутить кошкам хвосты. Дети же полагают, что взрослые не умеют радоваться жизни, делать глупости, ошибаться и дурачиться. И те и другие неправы.
Конечно, я мог часами сидеть на подоконнике и наблюдать за внешним миром. Наверное, это была важная часть мира внутреннего, потому что я залезаю на подоконник, как только начинает дремать недреманное око моих наставников. Я сосредоточенно перебираю рассыпанные на подоконнике винтики сирени — если попадется пятикрылый, — быть счастью. Откуда мне знать, что я уже куда как счастлив, и лучше уже не будет никогда. За окном дом, крытый черепичной чешуей, слева от него — аллея, ведущая в Стрыйский парк. С угла — вход в аптекарский магазин. Меня посылают туда за вазелином и бинтами. Бинты дома приходится подолгу ждать, потому что путь от певучей двери к прилавку лежит мимо цилиндрического аквариума с живыми пиявками. Они несут облегчение в людских страданиях, но почему-то к ним относятся с нескрываемым презрением. «Присосался, как пиявка», — шипит соседка на мужа. Присосавшись носом к аквариуму, я размышлял о несправедливости к этим пугающим уродцам, и о том, что есть же на свете смельчаки, которые подставляют им собственное тело. Я забывал о том, зачем я здесь. Даже величественное крещендо резного, сверкающего бронзой кассового аппарата, с имперских времен размахивавшего инкрустированной ручкой, не могло отвлечь меня от этих чудовищ. Тысячи ящичков с фарфоровыми и эмалированными табличками, кобальтовые штангласы, извивающиеся змеи на травленых стеклах перегородок и дверей, узенькие антресоли — двоим не разойтись и, конечно, колдовские запахи. О львовских аптеках писались книги и литературные эссе. Их сравнивали и с букинистическими лавками, и с библиотеками, и с каютами «Титаника». Здесь царила своя гармония, которая ничем не была связана с понятием времени и внешним миром. Она просто хотела, чтобы я ее запомнил. Вокруг львовских аптек складывались легенды. Одна из легенд даже связывает их с изобретением керосиновой лампы.
Соседняя дверь — парикмахерская, где все знают, что я ношу челку, и где весь персонал и посетители говорят на непонятном языке. Я знаю, что это идиш, но меня это не касается. Это — язык взрослых. «Наш» парикмахер — веселый и совсем нестарый человек. Дожидаясь очереди, я с восторгом слежу за его руками. Вот в них сверкнуло лезвие опасной бритвы, заметалось со скоростью молнии по облезлой коже точильного ремня, и давай слизывать пену с шеи бесстрашного клиента. И аптека и парикмахерская здесь находились еще до моего рождения, а может, и при Императоре Франце-Иосифе. Или еще раньше, года эдак с 1600-го, с тех дремучих времен, когда местные фармацевты конкурировали с врачами, ограждая свой статус от цирюльников-хирургов. К моему изумлению, они продолжали соседствовать и в 2015 году.
И все же главное убежище от родительских несправедливостей, да и вообще от опеки старших — игры. К счастью, старшие быстро поняли, что нет смысла дарить мне всякую механическую хрень. Жироскопы, раскрашенные заводные лошадки с жокеем, кустарные поделки типа лесоруба, пилящего с медведем бревно, юла пылились в коробке.