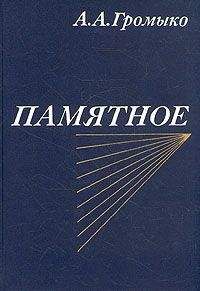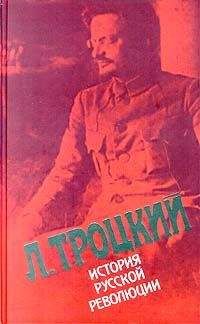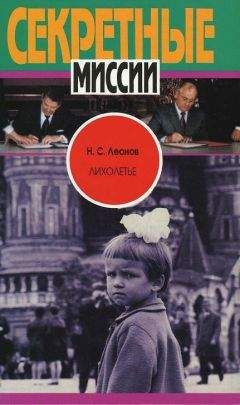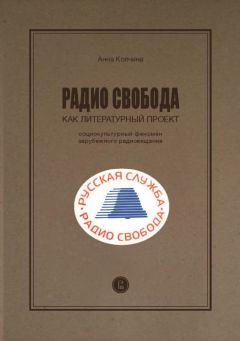Господи, напугай, но не наказывай! - Махлис Леонид Семенович
На свободе Василь первым делом наладил связь с партизанским подпольем, надеясь для начала переправить к партизанам брата с племянником, прятавшихся в погребе его хаты. И тут в дело включилась опальная невестка. Первые три заявления Канцедалова принесла знакомому полицаю. Иван Иванович Василевский жил в пяти минутах от Василя и до войны они приятельствовали, о чем Канцедаловой невдомек было. Василевский явился к соседу и по-дружески предупредил его о сгущающихся тучах:
— Если не заховаешься, то я уже не смогу тебе помочь, Василий Степанович. У тебя есть враги. И они тебя в покое не оставят.
— Нет у меня врагов в Сватово. — Отвечал Василь. Вот ты же пришел ко мне, хоть и с немцами путаешься. Я за всю жизнь здесь и мухи не обидел.
— Так то ж я. Немцы же с тобой нянькаться не будут. О детях подумай, болван старый.
— Дякую, Иван. Но никуды я не пиду.
Наутро, 16 августа в дом Василя явились два полицая — Чернуха и Тимченко — в сопровождении немецких солдат. Немцы Василя увели, а полицаи стали успокаивать Марусю — дескать, не убивайтесь, выпустят его, мы же знаем, что никакой он не жид. Первое время Марусе с детьми даже свидания с Василем давали и принимали продуктовые передачи. А потом… Потом снова явились. На этот раз — за Левой и Абрашей. На следующем свидании открылась страшная правда, верить в которую поначалу и Василь и жена отказывались.
— Ты вот что, Маруся, если будешь Моисею писать, скажи, что наш арест — Веркиных рук дело. Пусть подальше от нее держится.
Как выяснилось, Канцедалова твердо решила довести дело до конца. Новое заявление было адресовано уже гестапо, и отнесла она его лично начальнику полиции Бычкову. Дескать, как же это вы, товарищи эсэсовцы, оплошали — освободили Кривоноса, а ведь он не только жид и партизан, но и враг германского народа, в прошлую войну двух немецких офицеров самолично застрелил. Слава Богу, и свидетель нашелся — все тот же Петр Рыбачий.
— Да как же она могла такое, — недоумевала Маруся, — да она и писать-то толком не умеет.
— Мне на допросе письмо показывали. Почерк, действительно, не ее. Детский почерк. Она Майку заставила. Но подпись Веркина. А еды теперь побольше носи, чтобы и Леве с Абрашей…
Как до дома добралась, Маруся не помнила. До темноты просидела молча, думая о чем-то своем. Потом девочки услышали, как скрипнула калитка. Когда она вошла в канцедаловскую хату, Вера преградила ей дорогу, словно, ждала ее прихода.
— Я не к тебе. Мне надо поговорить с твоими детьми. — Тихим голосом проговорила Маруся. — Позови их.
— А нащо они тебе? Их немае.
— Я должна предупредить их об опасности. Они живут в одном доме с гестаповкой.
— Не хвылюйся, я их уже сховала. А шо ты так за тих жидов турбуешся? Нажаль, их батьки нема, ему тоже в тюрьме место.
На следующий день Маруся узнала, что всех троих вывезли в Старобельск, в гестаповскую тюрьму. Наскоро собрала она все, что было в доме съестного, приказала младшей дочери во всем слушать Женю и уехала в Старобельск. И на этот раз нашлись добрые люди, устроившие свидание. Вернувшись, Маруся долго рассказывала дочерям о встрече с их отцом. Василь как мог успокаивал жену, уверял, что его вот-вот выпустят, что все его мысли лишь о судьбе Левы и Абраши. В среду 16 сентября в надежде еще раз увидеть мужа Маруся снова собралась в путь. Как не умоляли ее дочери, мечтавшие еще хоть раз увидеть отца, взять их с собой, мать была непреклонна. Вместо этого она предложила поехать с ней второй, но уже бывшей жене Левы — Матрене. Подъехав к тюрьме, Маруся почуяла недоброе. Ворота были открыты, а за ними в глубине двора стояла пятитонка с откинутым бортом.
Они выходили по одному, как футболисты на поле перед решающим матчем. Щедрое сентябрьское солнце обдало их струей теплого света. Успевшие отвыкнуть от такой благодати узники резко жмурились, прижимая козырьком ладони слипшиеся от крови волосы.
— Одын, два, тры, чотыры, — хохол с карабином уныло считал, не вынимая изо рта цыгарки. Василь узнал в полицае старшего сына Василевского. Мальчонкой он часто забегал к Василю поиграть с псом, которого все в округе любили.
— 15, 16, 17… Дядя Василь??
— Я самый. А ты, я бачу, парад принимаешь, Грыцю.
— Да какой там парад, дядя Василь, меня собакой поставили охранять, щоб жиды не чкурнули. А вы чому тут з ними? Невже вы теж? Явно помылка. Я же сам видел, как вы на пасху в церкву ходили. Вас когда построють, я господину хауптману шепну как есть, он — справедливый — украинцев не зобижает. А жидив сьогодни кончать будут. Половлять тих, яки по хатам ховаються и також кончать.
— Послухай, Грыцю. Не во мне дело. Я — старый пес. Как видно, свое отжил. Много травы истоптал. Ты племяшку помоги спасти. Мальчишке 16 только минуло. Зовсим дытына. Да ты его помнишь. Перед войной он гостил у меня, так я вас двоих на рыбалку брал. У тебя тогда еще сапог уплыл. Помнишь? Его тоже схватили, он где-то здесь должен быть. Ради Бога, помоги…
Грыцько промолчал, только отмашку дал — проходи.
— Ну что за толковище! — донеслось до обоих. Полицай постарше возле тюремных ворот терял терпение. — Кому приказ был всех жидов построить?
Первую партию — 28 человек — выстроили на посыпанной гравием и заботливо ухоженной аллее под стройными украинскими тополями. С момента появления на плацу Лева не проронил ни слова. Он лишь озирался по сторонам, думая о сыне, 16-летнем Абраше, которого Василь все еще надеялся спасти. И вдруг Лева начал неторопливо стягивать с ноги галошу. Потом вытащил из кармана припасенную и ускользнувшую от пьяного внимания охранников бритву и стал деловито полосовать скользкую и неподдающуюся резину. Встретив вопрошающий взгляд старшего брата, Лева объяснил:
— Новые они, понимаешь, не хочу, чтобы этим зверям достались.
Если бы он знал, что именно в эти дни оккупационные власти и на самом деле проявили трогательную заботу о своих подручных, разослав приказ начальникам и старостам по всей области! Сохранилась отправленная в том же сентябре телеграмма сельским старостам:
«На основании распоряжения районного коменданта Вы обязаны представить в обязательном порядке не позже 10/9-42 г. 10 пар сапог не ниже № 43, которые предназначены для обмундирования украинской полиции.
Эту обувь вы можете изъять у коммунистов и евреев.
Кроме обуви необходимо собрать 10 рубах и 10 кальсон.
Начальник района г. Рубежное
Скворцов»[3]
По ту сторону ворот толпились люди — родственники, возбужденные односельчане, просто зеваки. Василь разглядел напуганную и зареванную Марусю. Она из последних сил сжимала мешок с продуктами, стараясь не потерять из виду мужа. Василь хотел было махнуть им рукой — дескать, вот он я, не хвылюйтесь, родные. Бог поможет. Не один, так другой. Но вместо этого Василь слегка толкнул плечом Леву и кивнул в сторону ворот. Но Лева даже не шелохнулся в ответ. Его взгляд был намертво прикован к крыльцу, с которого они только что спустились, и на котором каждую секунду мог показаться его Абраша. Лева любил сына больше жизни. За 14 дней в гестаповской тюрьме он усвоил, что сыну угрожает смерть, и с этого момента собственная судьба перестала его интересовать. Слава Богу, младшая дочь София осталась в Харькове. Она в безопасности. Но Абраша…
Лева не сразу узнал сына. Правая рука висела плетью. Темное пятно над бровью. Запавшие глаза. Вторую группу дотачали к первой. Грыцько и здесь постарался на совесть. Закончив, он деловито прошелся вдоль людской стены, удовлетворенно рассматривая свою работу. Поравнявшись с Василем, проговорил как бы в сторону:
— Дядя Василь, я племянника вашего признал. Да только воля на то не моя. Якщо господин хауптман в гарном настроении…
Дверь снова распахнулась, выпростав наружу группу подтянутых людей в безукоризненной, с точки зрения военной эстетики, одежде. Василь узнал в самом коротком из них своего следователя. Немец был в пенсне и разговаривал тихо, разорванными фразами, нервно и как-то незаинтересованно. Его собеседник был, очевидно, постарше чином, потому что время от времени отвлекался от разговора, чтобы отдать короткий приказ. О содержании приказов догадываться было нетрудно. Узникам было велено опуститься на колени.