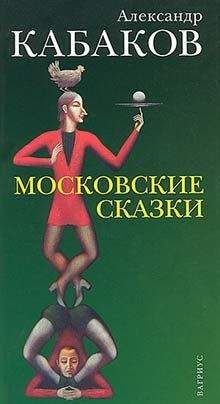Надежда Тюленева - Тайка
— Эх, тетка Матрена! Опять напилася! — пожалела Тайка техничку, пробегая мимо ее крылечка. Вспомнила, как честила ее «шпионкой», запоздало устыдилась.
Вот и ограда. Воротца притворены, значит, никого дома. Отец с матерью, должно, ушли к родне в Пеньковку. Замирая, вошла Тайка в избу. На лавке в переднем углу стояла икона, перед иконой мигала лампада.
Бабушка стояла на коленях и кланялась, кланялась до самого полу. Крупные слезы бежали по морщинам, как по знакомым тропинкам. Давно уже отец велел бабушке выбросить иконы. Но она таки спрятала одну маленькую — богородицы — и доставала ее по престольным праздникам. Только ведь сегодня не святки, не троица.
— Баба! Ты чего? — вся замирая, подошла Тайка к бабушке.
— Ой, Тайка-Тайка, скончалася Евгения-то Ивановна, вечная ей память, вечный покой… — Бабушка тяжело осела на пол и заголосила: — Скончалася наша голубушка, золотистая-а!
Тайка, словно среди ночи молнией высвеченную, увидела Евгению Ивановну в тот ослепительный день у колодца. В белом батистовом платке, с выбивающимися из-под него упругими солнечными завитками. Потом, как сидели они втроем в тягучие зимние вечера у огня, расстелив подле плиты веселое клетчатое одеяло, и Евгения Ивановна читала им с Наташей про смешных парнишек Чука и Гека, и про голубую чашку, и про дальние страны… Потом пили мятносмородиновый чай с оранжевыми картофельными кренделями прямо на полу, у огня. И вспомнилось Тайке почему-то, как старательно мыла Евгения Ивановна свою голубую чашку и ставила ее отдельно от всей посуды. И вообще в доме Калинкиных любили голубой цвет, и еще белый… А совсем недавно учительница говорила бабушке: «Мне бы самое главное, Пантелеевна, весну перевесновать, такое это мучительное для меня время!» Значит, не перевесновала…
* * *В ночь накануне похорон выпал снег. Буйный, отчаянный, он обрушился на зеленую землю и белые сады. В беду не верилось. Так все было диковинно. Утром выглянуло солнце. Из-под снега ослепительным зеленым водопадом вырвалась листва. В каждом яблоневом цветке прерывисто дышал крошечный огонек. И сад, казалось, осыпал не капли, а искры. В воздухе стоял птичий взволнованный благовест. Над белой землей плавал угасающий аромат яблоневого цвета.
Дорожка от ворот до крыльца Наташиного дома становилась все шире и грязнее и наконец превратилась в черную слякотную полосу.
Тайка держала Наташу за тонкую холодную руку и с недобрым любопытством разглядывала толпящихся во дворе сельчан. Приходили, кланялись, прощались, негромко переговаривались.
— Хорошо, что гроб-то во дворе поставили. Сколь народу-то пришло проститься!
Тайка волчонком зыркнула на выговаривавшую это Капку-молоканку: «Нашла о чем сказать «хорошо»!»
— Федька! Ну-кося побалуй у меня!
— Наташу-то, видно, мать Евгеньи Ивановны заберет.
— Это котора же?
— Да вон, в кружевной-то черной косынке стоит. Не узнаешь разве? Фершалицой когда-то у нас работала. Полина Яковлевна. Да и супруг-то ихний у нас же доктуром был. Потом он назначение в Белое Крыло получил, там, должно, и по сю пору живут. Не знаю только, Иван-то Михалыч жив ли, нет ли.
— А не возьмут, дак мы и колхозом воспитаем не хуже.
— Не грех колхозу и помочь сироте. Мать-то сколько трудов на наших дуботолков положила!
— Свекровушка моя говорила: не к добру нонче весна ранняя. Так и вышло, — различила Тайка у себя за спиной голос матери.
Наташа вдруг, как бы очнувшись, горячо зашептала:
— Тая, а может быть, мама и не умерла вовсе. А? А заснула. Я все смотрю-смотрю на нее и думаю, что, может, она еще проснется? А? Мне бы только ее глаза увидеть. Я бы сразу все узнала, все поняла… Ты загороди меня, Тая. А?..
Тайка никак не могла взять в толк, чего от нее хочет Наташа. Но когда та протянула руку к лицу матери, послушно заслонила подружку от людей букетом цветов.
«Ой, чего это она!» — Тайка испуганно следила за Наташиными пальцами. Тонкие, почти прозрачные, они легко легли на лицо Евгении Ивановны, коснулись длинных густых ресниц, приподняли веко, открыли глаз.
Он был черно-синий. Тусклый. Влажный. Тайка зажала рот ладонью. Наташа отшатнулась. Глаз прищурился на толпу неподвижным хитрым зрачком. Наташа как-то медленно очень стала падать. Едва успели подхватить ее.
В тот же день девочку увезли в Белое Крыло.
Глава вторая. В ожидании праздника
Не написавшая за всю свою жизнь по доброй воле и двух строчек (даже письма Николаю на фронт за нее писала Евгения Ивановна, хотя Устинья и сама грамоту кой-как знала), Тайкина мать бранилась:
— Бумагу только переводишь! Нет, чтобы сесть за пяльцы, как девушке следно быть, или взять спицы, так она какие-то дурацкие письма пишет!
А Тайке очень уж хотелось рассказать подружке о чрезвычайном событии, случившемся в деревне. Да беда, нет Наташи рядом, вот хочешь не хочешь — пиши. А тут еще мать… Тайка, умудренная опытом прежних откровений с нею, соврала:
— Я, мамка, не письмо, а сочинение. Задали нам на вольную тему. Видишь, уже сколько написала! — и важно пошуршала страницами.
Не потрудившись проверить, правда ли делом занимается дочь, Устинья протопала в горницу. Заваливаясь в постель, наказывала:
— Да не жги керосин-то зря. Какую вам норму задали? Поди, уж хватит писать-то? Тайка, дак заодно и отца накорми. Да смотри у меня без фокусов!
Бабушка отозвалась с печи:
— Не заботься ты, Устинька, я ведь не сплю. Мне так и так сусло караулить надо.
— Ой, бабуня, кулага будет! — Тайка обрадовалась и посадила в тетрадь кляксу.
Да, если бы вы знали, что за блаженство эта кулага, вы бы посадили кляксу, может быть, даже побольше Тайкиной. А между тем кулагу делать очень просто. Хоть попробуйте сами. Испарьте в глиняном горшке в русской печи на вольном духу сахарную свеклу да заквасьте потом сладкий тягучий сироп солодом, а потом заправьте хмельную коричневую массу ржаной мукой да дайте ей попариться в печи, а как остынет, вот вам и кулага. Лучше и духовитей всякого магазинного повидла. И сытная — потому что хлебная.
Поскольку муки надо на кулагу разве что чуть поменьше, чем на квашню, то было сие лакомство в ту пору, о которой рассказывается, еще большей редкостью, чем чистый, из гольной муки хлеб. Ясное дело, дрогнула Тайкина рука от радости. Клякса девчонку расстроила. Хотела Тайка вырвать испорченный листок, но сообразила, что мать еще не уснула и, если услышит треск раздираемой бумаги, непременно задаст трепку. Поэтому Тайка просто перевернула страницу. На чистой начала сызнова:
«Наташа! Пропишу я тебе про ваш дом…»
И остановилась. Вот ведь какое дело… Поселилось недавно в доме Калинкиных одно… чучело. Не чучело, конечно, человек, художник. Но иначе, как чучело, его и не назовешь. Дед, сказывают, у него когда-то здесь жил. Плотничал на три деревни. Дом после него оставался, да сгорел дом-то. А художник не знал про то, пожить приехал. Какую-то картину рисовать. Хотел уж было уезжать, раз сгорел дедов дом, да узнал, что есть другой, пустой, Калинкиных. Вот и поселился там. Съездил в Белое Крыло, испросил у Наташиной бабушки позволения и поселился. Расколотил первым делом ставни, двери, разрисовал их всякими узорами. Теперь на этот дом со всей деревни бегают смотреть. И хохочут. Он, поди бы, и стены измазал, да, видать, краски не хватило. Ходит Чучело в шапке. А у шапки той длинные-предлинные, до пояса, уши. Носит железные очки и летчицкие мохнатки. Говорят, в экспедиции какой-то на Севере участвовал… Долговязое Чучело, как коломенская верста. Звать — выговаривать надорвешься. Как-то там Рюрикович? Аристрах, кажись. Аристарх ли, Аристрах ли, просто Страх ли, все равно страшило — Чучело! Надо же, Аристарх Рюрикович! В деревне решили просто по батюшке величать — Рюриком. А Тайкина бабушка и того проще — Юриком. Попросил художник бабушку молоко ему носить. А вчера она хворала и велела Таиске заменить ее.
Тайку отвлек от размышлений стук в окно. К стеклу прижалось улыбающееся красное лицо с заиндевелыми бровями.
— Папка! — взвизгнула Тайка, будто не виделась с отцом целый год, и бросилась отпирать двери.
Отец сунул ей за шиворот комочек снега. Тайка вереща вкатилась в избу. Мать спросонья сказала:
— Давно драли тебя!
Бабушка хотела слезть с печи, но Тайка замахала на нее руками:
— Я сама, сама! Лежи, баба! Папка, сейчас я в рукомойник горячей воды налью.
Отец умывался. Тайка, сдвинув на край стола свои тетрадки, резала хлеб. Правда, темного, поколовшегося, иногда с блестками соломки, все же вдосталь было в Тайкином доме хлеба. Потом вытащила из печки картовницу — наструганную узкими столбиками и запеченную в молоке с яйцом картошку. А к картошке подала соленый арбуз и свекольник — густой пахучий свекольный квас. Поставила все это, и вроде не видна стала крестьянская послевоенная скудость. Отец вытереться не успел, а уж у Тайки все готово. И сама она возле лампы сидит и рукой щеку подперла. В платочке своем, до ветхости застиранном, ни дать ни взять бабушка Пантелеевна. Отец с удовольствием расчесал влажные кудри и сел напротив.