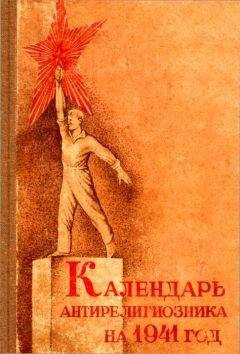Иван Горбунов - Очерки о старой Москве

Обзор книги Иван Горбунов - Очерки о старой Москве
«Давно уж это было, в тридцатом году, в первую холеру. Тихо жили тогда в Москве. Вставали на восходе, ложились на закате. Движение было только в городе, да на больших улицах, и то не на всех, а в захолустьях, особенно в будни, целый день ни пешего, ни проезжего. Ворота заперты, окна закрыты, занавески спущены. Что-то таинственное представляло из себя захолустье…»
Иван Федорович Горбунов
Очерки о старой Москве
Из московского захолустья
I
Давно уж это было, в тридцатом году, в первую холеру. Тихо жили тогда в Москве. Вставали на восходе, ложились на закате. Движение было только в городе, да на больших улицах, и то не на всех, а в захолустьях, особенно в будни, целый день ни пешего, ни проезжего. Ворота заперты, окна закрыты, занавески спущены. Что-то таинственное представляло из себя захолустье. Огромная улица охранялась одним будочником. Днем он сидел на пороге своей будки, тер табак, а ночью постукивал в чугунную доску и по временам кричал во всю глотку на всю улицу: «По-сма-три-вай!..» Хотя некому было посматривать и не на что: пусто и темно, только купеческие псы заливались, раздражаемые его криком. Полагалось четыре фонаря на всю улицу, и те освещали только собственный свой столб, на котором были утверждены.
– Если ты так кричать будешь, я к квартальному пойду… Всю ночь спать не даешь! – замечал купец будочнику.
– Приказано, – отвечал будочник, – чтобы как можно кричать. Мало ли тут непутевого народу?
– В нашей-то стороне?!
– Бывает. Намедни тут днем у калачника тесто украли.
– Поймали?
– Где поймать – ушел!
– Что ж ты криком-то испугаешь его, что ли?
– Все-таки опаска ему есть…
– Какая же ему опаска: ты кричишь «посматривай», а в переулке кричат «караул».
– Это не у нас: в тупичке извозчика грабили. Два часа голый у меня в будке сидел.
Был в захолустье дом, очень красивый, старинной архитектуры, с колоннами; он стоял пустой, заколоченный. Ходила молва, что в нем обитает нечистая сила. Один купец видел ее собственными глазами. Этому верили все – и Немецкая слобода, и Замоскворечье, и Сыромятники.
Горело захолустье очень часто. Эпохи его считались от пожаров.
– Это еще до большого пожара было.
Или:
– Это еще, когда Балкан не горел.
Ни врачей, ни аптек в то время ни в захолустье, ни близко в окружности не полагалось, да и незачем было. «Все под богом», – говорили обыватели. В самых крайних случаях, и то к очень богатым людям, приглашался штаб-лекарь Воскресенский. Болящие прибегали или к своим средствам – череде, бузине, бобковой мази, разным ладанкам с наговором, или обращались к капитанше Мирзоевой – от золотухи и от ушибов лечила; к сапожнику Разумову – от лихорадки пользовал и от килы знал лекарство; к банщику Ильичу – накожные сыпи понимал; к цирюльнику Ефиму Филиппову – отворял кровь «заграничным инструментом» и помогал от запоя, «пьяного червяка» замаривал. На вывеске у него значилось:
«С дозволения правительства медицинской конторы, заседания г-д врачей, в сем зале отворяют кровь заграничным инструментом пиявочную, баночную и жильную, прическа невест, бандо, стрижка волос, завивка и бритье и прочие принадлежности мужского туалета, по желанию на дом, по соглашению. Экзаменованный фельдшерный мастер Ефим Филиппов и дергает зубы».
Жила в захолустье в собственном доме привилегированная повивальная бабка Юлия Янсон, но к помощи ее никто не обращался, и вывеска у ней болталась для собственного удовольствия.
За воротами дома так же тихо и однообразно, как на улице. Чисто выметенный двор, до того огромный, что на нем можно выстроить свободно эскадрон кавалерии. Большой сад, в нем рдеют пионы, прозябает калуфер[1], божье дерево, цветут бархатцы, шапочки, анютины глазки; десятка два яблонь белого налива, несколько кустов крыжовника и смородины. В доме необыкновенная чистота, то есть в тех комнатах, где не живут хозяева, а принимают гостей. Мебель тяжелая, красного дерева: в углу, в больших раззолоченных киотах божье милосердие; на стене часы с боем; на окошке канарейка в клетке. Вот и все украшение комнаты. Тишина… Установленный издревле порядок никогда не нарушался. Как в прошлом году на святках ставили мелом на дверях кресты, так и в этом году будут ставить; как в прошлом году 9 марта пекли из теста жаворонков, так и в этом будут печь их.
Я сказал, что в редких случаях в захолустье появлялся доктор. Эти случаи бывали обыкновенно после масленицы. Въезжала широкая масленица в купеческий дом
С пирогами, с оладьями,
С блинами, с орехами.
За неделю до ее прихода в семье устанавливался порядок встречи ее и проводов. С которого дня приступить к блинам – вопрос был важный; решался он на семейном совете и утверждался самим хозяином.
– Ну, с понедельника, так с понедельника, пущай так, – говорил он.
– А оладьи с четверга, – предлагала хозяйка.
– А то кухаркам не управиться, – замечала бабушка.
– Ну, с четверга, – соглашался хозяин.
– А лещи каждый день пойдут.
– Само собой, что их жалеть-то…
В понедельник, рано утром, по всему дому распространяется блинный запах. Коты замурлыкали, даже в щелях тараканы зашевелились. Шарик давно уж сидит на кухне, облизывается и поглядывает на кухарок.
– Блинов, старый черт, дожидаешься! – говорит ему дворник.
Шарик ласково бросается к нему на шею.
– Только я посмотрю, как ты опосля лаять будешь, Я то опять я тебя на постную пищу.
Лица у кухарок от жара кажутся обтянутыми красным сафьяном.
Стол накрыт. Выходят хозяева; ведут под руки разбитого параличом дедушку, который только три раза в год появляется в обществе, а остальное время комнаты своей не покидает; входит дальняя родственница Дарья Гавриловна, в молодости имевшая роман с секретарем магистрата, который пропил все ее состояние и «на всю жизнь оставил только одну меланхолию». «Бедная я женщина, – говорит она, – но во мне столько благородства, хотя и купеческого, что я никому не позволю». За ней следует еще родственница Марфа Степановна; постоянное выражение ее лица такое, точно она просит милостыню; шествие замыкают купеческий племянник Кирюша, с отдутловатой физиономией, мужчина лет пятидесяти; наконец, Анна Герасимовна, пожилая, бойкая купеческая вдова, имеющая в захолустье дом с большим старинным садом. Сад этот она весь изрыла и ископала, отыскивая клад, зарытый кем-то в 1812 году.
Свернувши блин в трубку и обмакивая его в сметану – «в радости дождамшись», говорит хозяин.
Лица всех просияли. Дедушка хотел было выразить удовольствие улыбкой, но мускулы лица его не действовали, и он только пошевелил левой рукой.
Марфа Степановна, взявши первый блин, прослезилась и глубоко вздохнула.
Сын Семушка взвизгнул.
Дедушка левой рукой подбрасывал блин и хватал его на лету, наподобие собаки, ловящей муху.
Полное молчание.
Семушка сбился со счета.
– Манька, я забыл, сколько съел.
– Грех, батюшка, считать-то, – заметила ему бабушка, – кушай так, во славу божью.
Глаза начинают суживаться; лица у всех сделались влажными, утомленными. К последней партии блинов с семгой никто не касается.
– Дай бог доброго здоровья, – начал Кирюша, вставая из-за стола.
– А ты бы еще ел.
– Много довольны… не могу!
– Что ты, Кирюша, поделываешь? – обратилась к нему Анна Герасимовна.
Кирюша глупо улыбнулся.
– Ничего!
– Я тебе говорила – женись.
– Жениться… по нынешним временам…
– Ну, торговлю бы открыл…
– Торговать тоже… по нынешним временам…
– Куда ж теперь пойдешь?
– Туда…
– Куда?
– К тетеньке Василисе на Зацепу спать пойду.
– Ты у ней живешь-то?
– Нет.
– А где же?
– В монастыре…
– Что ж ты, душу свою соблюсти хочешь? – вмешался хозяин.
– Звоню. Колокол у нас большой, край только у него треснул… Шелапутиху хоронили, он и треснул…
– Как же, братец ты мой, – продолжал хозяин, – купеческий ты племянник, на линии, можно сказать, почетного гражданина, а каким пустым делом занимаешься, не купеческим…
Кирюша, уныло повесив голову, обтер рукавом скатившуюся слезу.
– Тетенька Василиса из дому выгнала… Ступай, говорит, вон!.. Холодно было… Всю ночь ходил по Яузе… Из Андроньева монахи взяли… «Звони», – говорят… Сапоги дали. Теперь в теплом соборе служат, а холодный который – заперт… Вчера отец казначей на Солянку за рыбой ездил…
– Стало быть, вы там хорошо едите?
– Монахи едят, – поспешно подхватил Кирюша, – мы звоним. Сегодня раннюю звонил…
– Ну, ступай с богом! Не ближний тебе путь на Зацепу-то, – сказала хозяйка.
Кирюша, положивши в рот указательный палец, робко обвел всех глазами и, тихо пробираясь по стенке, вышел из комнаты. Кухарка дала ему на дорогу пару лещей.
– Прими Христа ради, – сказала она.
Кирюша поклонился ей в ноги, промолвив:
– Благодарим за неоставление.
Первый блин, как говорится, комом. Целый день ходили все вялые. Коты не сходили с хозяйской постели. Ночь проведена беспокойно: хозяйка во сне вздрагивала, хозяин метался всю ночь, Семушка бился головой об стену и неистово кричал; Шарик, к величайшему огорчению дворника, всю ночь не лаял.
«Но уж только с завтрашнего числа я тебя лаять заставлю! Ты у меня на разные голоса лаять будешь, – думал дворник, перевертываясь с боку на бок, – теперь дело масленичное, двор у нас большой, улица глухая… Уж сам я за тебя лаять не буду».