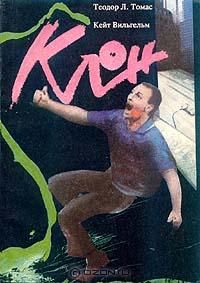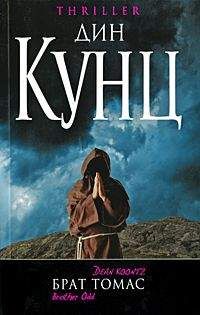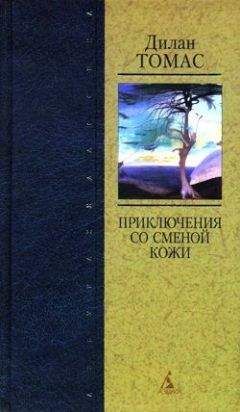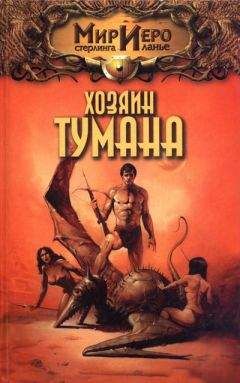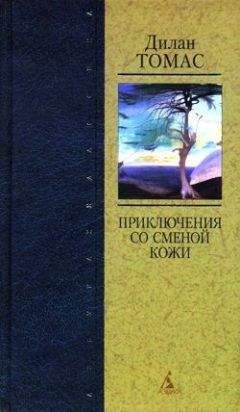Петер Гестел - Зима, когда я вырос
— Нет, я бы смотрел на девушек, — сказал Зван.
Мы облокотились на перила и ждали, хотя сами не знали, чего мы ждем. Нам повезло. Из-под моста у канала Кейзер показался старьевщик со своей тележкой. Чудесная картинка — как он толкает свою тележку по льду замерзшего канала. Он кричал хриплым голосом, ничего не разобрать. Его могли услышать люди и с левой, и с правой стороны канала. Но ни одно окно не приоткрылось и никто не позвал его: «Эй, старьевщик, сюда!»
— Когда я вырасту, хочу быть старьевщиком, — сказал я. — А ты, Зван?
— Хм, — сказал Зван, — пока не знаю.
— Почему ты пока не знаешь?
— Говорят, человек всегда становится не тем, кем хотел.
— Так что ты думаешь, я не стану старьевщиком?
Он кивнул.
— Вообще-то я хочу быть пекарем. И каждый день есть свежий теплый хлеб.
— Пекари не едят свой собственный хлеб.
— Откуда ты знаешь?
— Ты когда-нибудь видел портного в дорогом костюме, сшитом по мерке?
Я задумался.
— К чему ты клонишь, Зван? — спросил я.
Зван усмехнулся. Я увидел, что он щурится.
— Если прищуриться, — сказал он, — то кажется, будто ты попал в другой город.
— В какой?
— Понятия не имею. В незнакомый город. В какой-то далекий город.
Я прищурился.
— Ни черта не вижу, и никакого другого города тоже.
Мы посмотрели друг на друга. Я засмеялся. Зван — нет.
— К чему же это я клоню… — начал было он.
И убежал. Может, ему захотелось побыть одному, а может, и нет. Я побежал за ним, от волнения чуть не упал мордой в снег. Мы прибежали на Амстелвелд, там шла торговля, как всегда по понедельникам.
Торговцы хлопали себя по плечам руками, чтобы согреться. Мы прошли вдоль прилавков с книгами, пощебетали по-птичьи вместе с бедными птичками в клетках, погладили дрожащих собачек, которых никто не покупал.
В окружении небольшой группы людей стоял продавец-крикун и во всю глотку нахваливал свой товар.
— Надеюсь, что-нибудь интересное, — сказал Зван.
Нам повезло — у этого продавца-крикуна был отлично подвешен язык. Он показывал людям какой-то маленький предмет.
— Что это такое? — спросил я у Звана.
— Не знаю, — сказал он, — напоминает отжималку для белья в уменьшенном масштабе.
— Все мы бедняки, — кричал продавец, — и я такой Же бедняк, как вы. Недавно моя жена спрашивает: что Это звенит у тебя в кармане, наверное, денежки? Нет, говорю я, это железные пуговицы, которые прихожане бросили в мою шляпу вместо милостыни. Но нам они пригодятся! Дайте мне любую бумажку, дайте расчетный листок за последнюю получку, вам он уже не нужен, дайте любовную записку, которую вы нашли на туалетном столике у своей жены, дайте счет от врача или текст псалма с ангелочками — и глядите в оба, сейчас у вас на глазах произойдет чудо из чудес!
Какой-то старик дал ему потрепанную бумажку. Поворачиваясь в разные стороны, чтобы всем было видно, продавец пропустил бумажку через валики.
Мы со Званом встали впереди всей толпы, чтобы получше рассмотреть.
Замызганная бумажка превратилась в гульден.
— Этот гульден твой, — сказал продавец старику. — Купишь жене цветы, а себе рюмочку — горло промочить.
— Я не могу его взять просто так, — испугался старик.
— Бери-бери — пока я не передумал!
После этого от желающих купить чудо-машинку уже отбоя не было. Они окружили продавца таким плотным кольцом, что заслонили его от нас.
— Я знаю этот фокус, — сказал Зван серьезно. — Гульден был заранее вложен внутрь, на валики намотана полоска бумаги, покрашенной под дерево, так что потрепанная бумажка накручивается на валик и прикрывается этой полоской, а с другого валика одновременно скручивается спрятанный гульден. И если не знать, можно подумать, что бумажка превращается в гульден. Остроумно, что и говорить.
— Конечно, — сказал я, — я это сразу понял.
Мы пошли дальше бродить от тележки к тележке. Ощущения волшебства как не бывало. В этом Зван был силен — в разоблачении любой магии, с ним невозможно веселиться, он прямо-таки маленький профессор.
Вдруг Зван остановился.
— Ой…
— Что такое?
— Будь молодцом, Томас, — сказал он и мгновенно юркнул за тележку.
Я пожал плечами и решил не бежать за ним сразу же. Заглянув за тележку минуту спустя, я его уже не увидел. Я обвел взглядом весь Амстелвелд. Звана нигде не было видно.
Я пошел прочь и столкнулся нос к носу с Бет.
Я не сразу узнал ее. В обеих руках у нее было по сумке. На улице Бет, в своих железных очках, выглядела еще более строгой.
— А где же Пим, Томас? — спросила она.
— Смылся, — сказал я. — Елки-палки, он вдруг драпанул, я и пёрнуть не успел.
Я ничего не мог с собой поделать, при виде Бет грубые слова так и лезли из меня против моей воли.
— Да, — сказала Бет, — он меня заметил. Не беда — ты можешь занять его место.
— Его место? Как это? Почему?
— Потому что ты очень хороший мальчик.
— Правда?
— Ты мне не веришь?
— Не верю.
— Я всегда говорю только то, что думаю.
— А ты не можешь при этом врать и выглядеть так, будто ты это правда думаешь?
Бет ничего не ответила. В ее глазах искрой мелькнула улыбка.
— И чего же мне нужно делать?
Она подняла свои сумки.
— Помоги мне нести, — сказала она.
— Они пустые.
— Скоро наполнятся. Идем.
Бет повернулась и пошла дальше.
— Я с тобой не пойду! — закричал я.
И через секунду уже бежал за ней следом.
Первым делом мы пошли в мясную лавку Билле на площади Фредерика (папа всегда произносит его фамилию на французский манер — Бий). Оказалось, что в понедельник магазин закрыт.
— Тьфу ты, — огорчилась Бет, — всякий раз забываю.
Затем мы пошли в зеленную лавку Глазера на Вейзелхрахт, в бакалею Де Спервера на Ветерингсханс. Во всех этих лавках Бет доставала из кошелька малюсенькие талончики — продовольственные карточки, будь они неладны, в которых я ни черта не смыслю.
После похода по магазинам я тащился по улице уже с двумя тяжеленными сумками. Поскольку Бет шла налегке, она легко перегоняла меня, а я, вприпрыжку и высунув язык, едва поспевал за ней.
— Вот уж я Звану влеплю, — сказал я.
Бет принялась насвистывать грустный мотив. Но сама от этого насвистывания, похоже, развеселилась; время от времени она так мотала головой, что развевались ее длинные черные волосы.
— Я умею играть гимн «Вильгельмус» на флейте, — сказал я. — В прошлом году в День королевы заработал этим кучу денег.
Бет начала громко свистеть мотив «Вильгельмуса».
— На маминой флейте, — уточнил я.
Она перестала свистеть.
— Неужели ты умеешь играть на флейте, Томас? — удивилась она. — Не верю!
Ой-ой-ой, подумал я, она видит меня насквозь и видит, что я в нее по уши втюхался, что же теперь делать?
— Ты думаешь, что я уличный мальчишка, да? — спросил я.
— Ты принадлежишь к дворянскому роду, — сказала Бет. — Правда, не к самому знатному.
На углу Ветерингсханс и Ниуве Вейзелстрат я поставил сумки на тротуар и показал на противоположную сторону.
— Там и есть Ден Тексстрат, — сказал я.
— Пошли, — сказала она и быстро-быстро пересекла улицу. Я поднял сумки и побрел за ней, почти не чувствуя своих затекших рук.
На Ден Тексстрат было пустынно и тихо, как на любой улице в воскресенье. На тротуарах не видно играющих детей. Из окна верхнего этажа высунулась длинная рука — кто-то вытряхивал пыльную тряпку.
Пройдя улицу до середины, Бет остановилась. Повернулась влево и показала на большой роскошный дом.
Я не сразу догнал ее.
— Вот тут, — сказала она и кивнула (иногда кивнуть — то же самое, что показать пальцем).
— Что тут? — спросил я.
— В этом доме жили дядя Давид и тетя Минни.
— А-а… — сказал я.
— И Пим.
— А-а… — сказал я.
— И ты сюда тоже приходил. Ты совсем не помнишь, да? Ты приходил сюда на день рождения к Пиму. И очень понравился дяде Давиду и тете Минни — они считали, что ты такой чудесный малыш.
Бет посмотрела на меня.
— Ты и был чудесным малышом, хотя у тебя уже тогда вечно текло из носа.
— Да ну? — сказал я, потому что из-за тяжелых сумок не мог высморкаться в ее красивый платок.
— Родители Пима и твои родители познакомились на улице, несколько раз разговаривали о том о сем. И поскольку ты был таким же мальчишечкой, как и Пим, дядя Давид с тетей Минни решили пригласить тебя к Пиму на рожденье. Тебе было четыре годика.
— Очень может быть, — сказал я. — А почему они здесь больше не живут?
— Папа тебе ничего не рассказывал?
— Нет, он ничего мне не рассказывает — он пишет книги и там рассказывает все, что хочет, а для меня ничего не остается.
Я смотрел на дом. Окна нижнего этажа выглядели безжизненными.