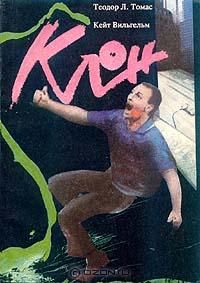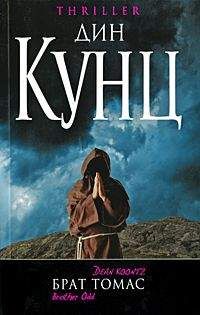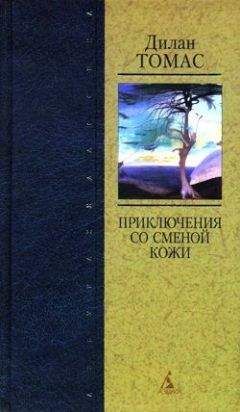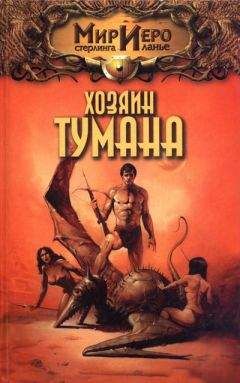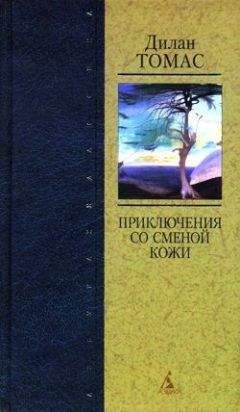Петер Гестел - Зима, когда я вырос
Я снова посмотрел на улицу.
Там уже зажглись фонари. Их свет был едва заметен. В доме Пита Звана и Бет, в гостиной, выходящей на эту сторону, горел свет.
Мне пока еще было неохота возвращаться к тете Фи.
Я довольно долго простоял на мосту у канала Реполир.
В вечернем свете почти все было видно — например, мост около Амстелвелда, деревья без листьев; если хорошенько присмотреться, можно было разглядеть даже черные велосипеды у фонарных столбов.
Не знаю, что давало больше света — горящие фонари или смерзшийся снег.
Недалеко от меня большая собака подняла у дерева лапу. Она дрожала, как может дрожать только собака. Я замерз от одного ее вида и тоже начал дрожать.
Бедный зверь, думал я, она ничего не знает о зимнем снеге, она не знает, что лед и зима могут быть вечными.
А я это знал. Потому что был знаком с Питом Званом. Он мне рассказал.
С книгой под мышкой я побрел в направлении Ден Тексстрат. Здесь нечего было делать — улица словно вымерла. Шторы нигде не были задернуты. Старик в подтяжках, увидев меня, помотал головой — «нет», чуть дальше в какой-то комнате мальчик постучал себе по лбу.
Я медленно пошел по Ветерингсханс.
У дома Пита Звана остановился. Посмотрел наверх. В комнате со стороны улицы света не было. Я мог позвонить в дверь, а мог и не звонить.
Я позвонил.
Когда дверь открылась, я крикнул наверх: «Я могу и не заходить!»
— А, Томас, это ты, — услышал я голос Звана, — поднимайся скорее.
Я чуть не заплакал от облегчения.
Зван был без ботинок и в носках без дырок.
На деревянном столе в гостиной, где горел свет, лежал раскрытый старинный атлас, рядом с ним стоял стакан чая. Я положил свою книжку на сиденье стула, снял куртку и повесил ее на спинку.
Зван нервничал.
— Слушай, — сказал он, — вот чудно: я думал — кто-то случайно позвонил, а это, оказывается, ты.
— Да, — сказал я, — я случайно проходил мимо вашего дома.
— И ты подумал: а не позвонить ли мне!
— У меня совсем мало времени, я скоро уйду. А ты что, дремал?
— Нет. А почему ты так решил?
— У тебя глаза сонные.
— Я рассматривал карту. — Зван закрыл атлас на столе. — Я в доме один, — сказал он, — тетя Йос и Бет пошли навестить больную. Не спрашивай меня, кто заболел, — у тети Йос тысяча старых и больных подруг. Как я рад, что ты зашел! Хочешь чаю или кофе?
— Ну давай чаю.
Чай был холодный, я такой люблю. Я пил чай с шоколадным печеньем, во рту печенина с чаем превращалась во вкусную сладкую кашицу.
— Ты месишь строительный раствор, — развеселился Зван.
— Чего-чего?
— Ешь и пьешь одновременно. Тетя Йос так не разрешает. Тебе плохо, да, Томас?
— Папа уехал в Тилбург. Завтра пойдет на урок по почтовым тарифам в Германии.
— Ты сейчас живешь у тети Фи, да ведь?
— Да, у нее. Ты меня еще долго будешь расспрашивать? Я этого не люблю.
— Больше не буду.
— Жалко, что Бет нет дома.
— Ты в нее влюбился?
— Глупый вопрос. Стану я втюриваться в такую тощую.
— Ты что, предпочитаешь толстушек?
— Я вообще не втюриваюсь, — сказал я с гордостью. — А ты?
Он неуверенно помотал головой.
— Почему ты рассматривал карту?
— Просто так.
Я со стуком положил на стол свою книгу.
— Моя любимая, — сказал я.
Он взял ее в руку, пристально осмотрел, быстро пролистал и уставился на обложку.
— «Солнечное детство», — прочел он. — Что это такое?
— Это когда все время радуешься.
— А не то что когда все время светит солнце?
Он терпеливо ждал моего ответа.
— Ты придуриваешься, Званчик?
— Можно я ее возьму у тебя почитать?
— Конечно.
— Ты слишком легко соглашаешься.
— Почему слишком легко?
— А вдруг я не отдам?
— Тогда я за ней зайду к тебе.
— А если мы перестанем водиться?
— Перестанем так перестанем. Мне все равно.
— И мне тоже, — сказал Зван.
— Я тогда буду водиться с другими ребятами, — сказал я.
— Я тоже.
— И у меня есть другие книги. Без картинок. Ты читаешь книги без картинок?
— Я прочитал очень много книг без картинок, — ответил Зван.
— Ты хвастун.
Зван смущенно засмеялся.
— Слушай, давай сыграем в шашки, — сказал он.
— Лучше не будем, — сказал я, — я здорово играю в шашки, ты наверняка проиграешь.
Мы сыграли три партии. Первые две я проиграл, и когда в третьей у меня осталась только одна шашка, а у Звана было еще три дамки, я разозлился и смахнул все шашки с доски.
— Черт побери, — сказал я, — у меня ничего не получается, ты же видишь, у меня день невезения.
— Успокойся, — сказал Зван. — Бет мне тоже всегда проигрывает. И страшно злится. Но никогда не ругается.
— Ну и хрен с ней.
— Я не люблю, когда ругаются.
— Мой папа ругается, как матрос.
— Ты очень любишь своего папу, да?
— Тебя это не касается.
— Здесь нечего стыдиться.
Зван посмотрел на меня с дико напряженным выражением.
— Чушь. А ты чего на меня так смотришь?
— Пошли, — сказал он, — я покажу тебе мою комнату.
Его комната оказалась довольно-таки узкой. На полу там и сям лежали стопки книг. На столе стояло несколько изящных маленьких чернильниц. Единственное окно наполовину заслонял шкаф из некрашеного дерева. А спал он на узкой складной кровати.
Вообще-то у Звана в комнате был жуткий беспорядок, но, я бы сказал, аккуратный беспорядок. И еще тут было кошмарно холодно.
Зван дал мне свитер и сказал:
— На, надень.
— А как же ты?
— На мне две майки разом, так что нормально.
Я медленно натянул свитер. Я не люблю чужую одежду. И не люблю бутерброды, которые достают из зажиренной обертки одноклассники.
Свитер Звана оказался очень теплым.
— Садись, — сказал он.
— Куда?
— На кровать, Томас.
Я сел на его кровать.
— Ты любишь музыку, Томас?
— Что-что?
— Музыку.
— Ого, да.
— Я когда-то учился играть на скрипке, несколько месяцев. Потом мой отец захотел послушать, как у меня получается. Я пиликал изо всех сил. Нет, сказал отец, Менухина[9] из тебя не получится. Не расстраивайся, Санни, прекратим уроки, я не хочу, чтобы ты в будущем играл на скрипке по кабакам.
— Твой папа зовет тебя Санни, да?
Зван кивнул.
Сидя на кровати, я смотрел на него снизу вверх. Мне это нравилось. Мне нравилось сидеть у него на кровати. Я смотрел, как он аккуратно закрывает чернильницу стеклянной крышечкой.
Его папа звал его Санни.
Его приемные родители — кто бы это ни был — называли его Питом.
Тетя Бет — Пимом.
А я — Званом.
Я завидовал ему. Я чувствовал себя обделенным судьбой, оттого что у меня было всего одно имя. «Томми» я в счет не брал, именем Томми звали того медлительного мальчика, которого в школе дергали за волосы, — дома я про Томми забывал, потому что дома я был Томасом; да, выходит, у меня тоже было два имени. И чего это я задумался о такой ерунде?
— Как славно, что ты здесь.
Он говорил как старушка. Разве же молодые люди говорят «как славно»? Так говорит моя тетя, и когда она так говорит, то сразу же становится совсем даже не славно. Папа прав: говорить — значит врать.
— Ты тоже считаешь, что говорить — значит врать?
— Откуда ты это взял?
— Так сказал папа. А где твой папа? Он уехал? И мама тоже? Поэтому ты живешь у тети?
— Я поставлю для тебя пластинку, — сказал Зван. — А то мы наговорим лишнего. Потом постепенно все узнаешь.
— Папа сегодня тоже все время говорил про «потом», — сказал я. — Я полусирота. Папа говорит: полусирота — такого не бывает.
Зван рассмеялся.
— Хорошо сказано. Ладно, давай слушать пластинку, тебе наверняка понравится.
Из шкафа он достал патефон в чехле.
Поставил патефон на стол в гостиной, открыл крышку, вынул из квадратного конверта старую хрупкую пластинку и положил ее на вращающийся диск. Потом стал как ненормальный крутить ручку патефона. Затем передвинул рычажок, и пластинка начала вращаться. Зван медленно и осторожно опустил блестящую головку — игла прикоснулась к пластинке.
Шипение и треск, затем послышался довольно хриплый гнусавый голос. Кто-то плаксивым голосом пел про какого-то «сыночка» — Sonny Boy.
Слушая, Зван вытягивал вперед сложенные трубочкой губы. Точно для поцелуя. Выглядел при этом как круглый идиот.
— Ни слова не понимаю, — сказал я.
Зван приложил палец к губам.
— Жалостная песня, да?
Он пожал плечами.
Когда пластинка доиграла, почесал подбородок.
— Это негр поет, да? — спросил я.
— Нет, — сказал он, — Эл Джолсон — он не негр, а русский еврей в Америке, Эл Джолсон красит лицо черным гримом и становится похож на негра, там это называется coonsinger[10]; он поет о своем сыне, который умер маленьким. Папе эту пластинку подарил его брат Аарон. Дядя Аарон живет в Америке. В тридцатые годы он приезжал на месяц в Голландию и привез тогда отцу этот патефон и пластинку. Ты внимательно слушал? Он поет об ангелах, которым грустно и одиноко, поэтому они хотят, чтобы сыночек вернулся на небо. Очень печальная и очень красивая песня. Папа, я помню, как-то раз сказал… он сказал: «Санни, тебя мы ангелам не отдадим, пусть и не просят, — завтра поедем в Девентер на велосипеде».