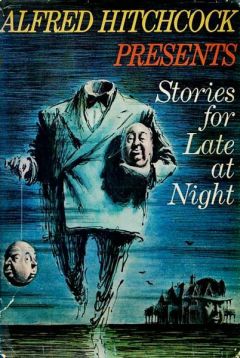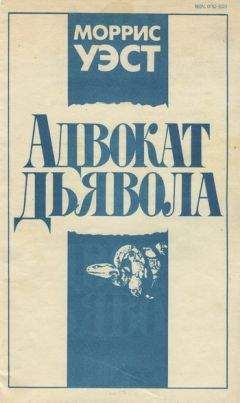Нина Георге - Лавандовая комната
Мы навсегда останемся друг для друга тем, чем были.
Подпись Манон была бледной и бесплотной. Через двадцать лет Жан Эгаре склонился над родными каракулями и поцеловал их.
44
На третий день мистраль кончился как по мановению руки. Так было всегда. Он рвал гардины, гонял по углам полиэтиленовые пакеты, заставлял собак заливаться лаем, а людей слезами.
И вот он мгновенно исчез, а вместе с ним и пыль, застарелый зной и усталость. Курортный край сбросил с себя, как несвежую одежду, туристов, наводнявших города и деревни, наполняя их лихорадочной, голодной суетой. Люберон вернулся к своему привычному ритму жизни, подчиняющемуся лишь циклам природы. Цветение, сев, совокупление, терпеливое ожидание, сбор урожая – все делается, все происходит когда надо и как надо, без колебаний и промедлений.
Тепло возвратилось, но это было уже мягкое, ласковое осеннее тепло, сладострастно предвкушающее вечерние грозы и утреннюю свежесть, по которой так истосковалась земля за знойные летние месяцы.
Чем выше Эгаре поднимался по отвесной, изрытой дождями песчаной тропе, ведущей на мощную храмовую гору Боньё, тем тише становилось вокруг. Его сопровождали лишь сверчки, цикады и легкое посвистывание ветра. Он захватил с собой дневник Манон, откупоренную и слегка заткнутую пробкой бутылку вина Люка и стакан.
Он шел так, как только и можно идти по отвесной неровной тропе, – согнувшись, мелкими шагами, преодолевая боль в икрах, в спине и в висках.
Миновав церковь с ее крутыми, почти отвесными, каменными лестницами и кедровую рощицу, он наконец оказался на самом верху.
От открывшегося вида у него перехватило дыхание.
Перед ним, где-то далеко внизу, расстилались необъятные дали. Яркий день после отступления мистраля словно обескровил небо: там, где по представлению Эгаре должен быть Авиньон, оно казалось почти белым.
Он смотрел на домики песочного цвета, рассыпанные по красно-желто-зеленому фону, точно кубики, как на исторической картине. Длинные ряды виноградников, прячущих среди листьев спелые и сочные гроздья, выстроились, как солдаты. Огромные отцветшие лавандовые каре. Зеленые, бурые и землисто-желтые поля, посреди которых приветливо машут зелеными ветвями кучки деревьев. Это была потрясающе красивая местность, а вид с горы, величественный и завораживающий, покорял каждого, у кого есть душа.
Эта похожая на Голгофу гора с ее толстыми стенами, мощными саркофагами, грозными перстами каменных крестов, указующими на горнии выси, – казалась нижней ступенью лестницы в Небо.
А там, в сияющей бездне, незримо сидит и взирает на землю Бог. И эта величественная, торжественная картина принадлежит лишь Ему и умершим.
Жан с опущенной головой и бьющимся сердцем прошел по дорожке, усыпанной крупной галькой, к высоким кованым воротам.
Кладбище было узким и длинным. Оно располагалось на двух уровнях, по два ряда могил на каждом. Обветренные плиты из песчаника и черно-серые мраморные саркофаги. Памятники высотой с двери и шириной с кровать, увенчанные горделивым крестом. Почти сплошь семейные склепы, хранящие многовековую скорбь.
Между могилами стояли стройные подстриженные кипарисы, не дававшие тени. Все было голым и неприветливым, и негде было укрыться от солнца.
Медленно, все еще тяжело дыша, Эгаре прошел первый ряд могил, читая надписи. Огромные саркофаги украшали фарфоровые цветы, стилизованные каменные книги, полированные, с фотографиями или краткими эпитафиями. На некоторых символически были изображены хобби умершего.
Вот мужчина – Брюно – с ирландским сеттером, в охотничьем костюме.
На другой могиле – колода игральных карт.
На третьей – контуры острова Гомера, по-видимому излюбленного обиталища мертвых.
Каменные комоды с фотографиями, картами и мелкой пластикой. Живые жители Боньё, отправляя своих умерших в мир иной, не скупились на источники информации о них.
Эти украшения напомнили Эгаре о Кларе Виолет. Ее рояль всегда был уставлен подобными безделушками, которые ему милостиво дозволялось убрать, прежде чем она начинала свои балконные концерты.
Эгаре вдруг остро почувствовал, что соскучился по обитателям дома № 27 на рю Монтаньяр. Может, все эти годы он жил в окружении друзей и просто не замечал этого?
В центре второго ряда, на фоне долины, Эгаре наконец нашел могилу Манон. Она покоилась рядом со своим отцом Арнулем Морелло.
По крайней мере, ей там не так одиноко.
Он опустился на колени. Прижался щекой к памятнику. Обхватил его руками, словно обнимая.
Мрамор был холодным, хотя в нем отражалось солнце.
Пели сверчки.
Горестно стонал ветер.
Эгаре ждал, что почувствует что-нибудь. Почувствует ее.
Но единственное, что он чувствовал, были пот, катившийся по спине, болезненное биение пульса в ушах и врезавшиеся в колени острые камешки.
Он открыл глаза, посмотрел на ее имя – Манон Бассе (урожд. Морелло), на даты жизни и смерти: 1967 – 1992, на черно-белое фото в рамке.
Никакого отклика в душе.
Ее здесь нет.
Ветер со свистом пронесся сквозь крону соседнего кипариса.
Ее здесь нет!
Он поднялся с колен, разочарованный и растерянный.
– Где ты?.. – прошептал он.
Фамильный саркофаг бы сплошь уставлен траурными символами. Фарфоровые цветы, статуэтки кошек, изображение раскрытой книги.
И множество фотографий Манон, которых Эгаре никогда не видел.
Ее свадебная фотография с надписью: «С любовью и благодарностью. Люк».
На другом фото, где Манон держала на руках кошку, было написано: «Дверь на террасу всегда открыта. Мама».
На третьем – «Я родилась, потому что ты умерла. Виктория».
Эгаре осторожно взял в руку маленькую скульптуру, изображающую раскрытую книгу, и прочел надпись:
«Смерть ничего не значит. Мы навсегда останемся тем, чем были друг для друга».
Эгаре еще раз прочел эти слова. На этот раз вслух.
Это были слова, сказанные Манон, когда они в Бюу, посреди темных гор, искали в ночном небе свою звезду.
Он провел рукой по саркофагу.
Но ее здесь нет.
Манон не замурована здесь, в камне, под землей, в страшном одиночестве. Она ни на миг не спустилась в этот склеп, к своему навсегда покинутому телу.
– Где ты? – прошептал он еще раз.
Подойдя к парапету, он посмотрел на безбрежную ширь, на раскинувшуюся перед ним внизу долину Калавон. Все было таким крохотным. Ему казалось, будто он летит, как канюк. Он чувствовал запах воздуха. Дышал им. Чувствовал тепло и слышал шелест ветра в кедрах. Он видел даже виноградник Манон.
Вдоль шлангов для поливки цветов широкая каменная лестница вела на второй уровень.
Он уселся на ступеньку, вынул пробку из бутылки с белым вином «Манон XV», наполнил стакан и осторожно попробовал. Понюхал вино.
Приятный, светлый аромат. У «Манон» был вкус меда, фруктов, вкус нежного вздоха перед сладким погружением в сон. Живое, противоречивое вино. Вино, пропитанное любовью.
Это вино сделал Люк.
Он поставил стакан рядом с собой на ступеньку и раскрыл дневник Манон.
В последние дни, пока Макс, Катрин и Виктория работали на винограднике, он то и дело, даже ночью, читал дневник. Многое он уже помнил наизусть. Многое стало для него неожиданностью. Кое-что болезненно задело его, а многое преисполнило благодарности. Он не знал, как много значил для Манон. Раньше он так мечтал об этом и вот только теперь, когда вновь заключил мир с собой и вновь влюбился, наконец узнал правду. И она исцелила его старые раны.
Теперь он искал одну запись, сделанную во время ее мучительного ожидания.
Я уже достаточно долго пожила, – писала Манон поздней осенью, таким же октябрьским днем, как этот. – Я жила, любила, значит все лучшее от жизни уже получила. Зачем жалеть о том, что все кончается? Зачем цепляться за остатки жизни? Смерть имеет один существенный плюс: со смертью кончается страх смерти. И наступает мир.
Он полистал дальше. Дальше шли записи, рвущие ему сердце болью сострадания. Где она рассказывала о страхе, волнами пронизывавшем ее тело. По ночам, когда, проснувшись в безмолвном мраке, она слушала приближение смерти. Как и в ту ночь, когда, уже на последних месяцах беременности, она прибежала в комнату Люка и он держал ее в объятиях до утра, отчаянно борясь со слезами.
Он плакал, когда думал, что она его не слышит, например под душем.
Но она, конечно же, все слышала.
Манон то и дело изумлялась силе и мужеству Люка.
Он кормил и умывал ее. С ужасом замечая, как она тает с каждым днем. В то время как ее живот все увеличивался.
Эгаре выпил еще стакан, потом стал читать дальше.
Мой ребенок питается мной. Остатками моей здоровой плоти. Мой живот – розовый, тугой, живой. Там словно поселилась целая стайка маленьких игривых котят. Остальное во мне – тысячелетняя рухлядь. Серая, и гнилая, и сухая, как бретонские галеты, которые так любят северяне. Моя девочка будет есть золотистые масляные рожки. Она победит, победит смерть, мы вместе утрем ей нос – мой ребенок и я. Я хочу назвать ее Викторией.