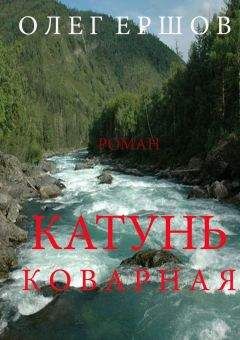Луи-Рене Дефоре - Болтун. Детская комната. Морские мегеры

Обзор книги Луи-Рене Дефоре - Болтун. Детская комната. Морские мегеры
Луи-Рене Дефоре
Всякому писателю, да и всякому читателю, если только любовь к искусству соединяется в них с глубоким недоверием к приемам искусства, знакома эта двойственность: порыв вдохновения, с одной стороны, критический взгляд, с другой. Я бы сказал, что писание — это действие, совершаемое во мне кем-то, кто говорит в расчете на того во мне, кто слушает. Однако для этих двоих, каждый из которых радикально исключает другого, в то же время полностью исключена и возможность принадлежать к моему личному «я»: потому-то «я», выражающее эту двойственность, и может быть только «я», утратившим себя…
Луи-Рене ДефореБОЛТУН
© Editions Gallimard, 1946,1973 (Louis-René des Forêts. Le Bavard)
Глава I
Я часто смотрюсь в зеркало. С ранних лет мое самое сильное желание — обнаруживать в собственном взгляде нечто волнующее. Думаю, я всегда предпочитал женщинам, уверявшим — то ли в любовном ослеплении, то ли в расчете привязать меня к себе, — что я писаный красавец или что у меня энергичное лицо, тех из моих подруг, которые почти шепотом, с какой-то боязливой сдержанностью, говорили мне, что я совсем не похож на других. Ничего странного тут нет, я давно внушил себе: наиболее привлекательным моим качеством должно быть именно своеобразие. В сознании своей незаурядности я обычно и черпал душевные силы. Но теперь, когда спесь с меня слетела, могу ли я утаить от себя, что ничем не отличаюсь от остальных? Я морщусь, выводя на бумаге эти строки. То, что сам я узнал наконец нестерпимую истину, еще куда ни шло, а вот сообщать ее вам — совсем другое дело! Правда, к моей растерянности примешивается чувство горького наслаждения, которое мы порой находим в публичном признании одного из своих недостатков, даже если он никому не интересен. Меня, возможно, спросят: а не предпринял ли я мою исповедь только для того, чтобы ощутить это, отчасти болезненное, наслаждение — примерно так, как поступают некоторые люди утонченного склада, с расчетливой замедленностью теребя ногтем указательного пальца ранку на нижней губе, нарочно ими расцарапанной, или буравя кончиком языка мякоть незрелого лимона. Тут я могу лишь улыбнуться и, улыбаясь, ответить вам, что смею похвастаться отсутствием склонности к доверительным беседам; друзья называют меня воплощенной молчаливостью, и они не станут отрицать: ни разу, несмотря на все ухищрения, им не удалось вытянуть из меня то, что я прячу в себе. Они даже считают эту неспособность открыться другому изрядно мне вредящей, а потому заслуживающей сочувствия, и я с наслаждением, точь-в-точь таким же, какое сейчас описал, замечу, что скрытое тщеславие побуждает меня извлекать выгоду из этой их убежденности, симулируя или просто преувеличивая страдания, причиняемые мне столь плачевной слабостью, — как если бы я хранил в душе великую тайну, которую с облегчением кому-нибудь поведал, не считай я эту тайну, ввиду ее исключительного и к тому же глубоко личного характера, ни в коем случае не подлежащей оглашению.
И если я позволю моему внутреннему жару меня увлечь, то припишу себе задние мысли, каких на самом деле у меня не было, стремление казаться искренним человеком, не заботящимся о том, чтобы избежать унижений. Нет, я взялся за перо не ради удовольствия занимать вас собственной персоной и не для демонстрации своих литературных талантов. Вижу, что отклоняюсь от темы, но вы сами наверняка знаете: если хочешь объясниться с полной откровенностью, изволь сопровождать каждое свое утверждение оговорками, которые зачастую его выхолащивают, — словом, никогда не удастся избавиться от этой чертовой щепетильности, мешающей хоть о чем-нибудь умолчать. Повторю: я совершенно равнодушен к выразительным средствам, потребным для того, чтобы уложить эти строки на бумагу. Пожалуй, «совершенно равнодушен» слишком сильно сказано. По природе своей я тяготею к стилю многозначному, красочному, пылкому, темному и надменному, — сегодня же, не без внутреннего сопротивления, принял решение не прибегать к формальным изыскам, так что стиль этого рассказа никак нельзя назвать моим собственным; иначе говоря, я отбросил все жалкие словесные прикрасы, которыми иногда себя тешу, хотя отлично знаю им цену: чтобы расцветить подобным образом свою речь, достаточно самого немудреного навыка. И еще прошу учесть, что мой обычный слог далек от исповедального; я вообще, в этом нет ничего удивительного, пишу так же, как многие другие; впрочем, и не заношусь чересчур высоко, о чем вас заранее предупреждаю.
Что же, пора перейти к причинам, побудившим меня выставиться перед всеми в неприглядном виде. Как вы заметите, мои слова подчас окрашены несколько насмешливой интонацией, в этом отношении я себя не сдерживаю, хотя решил быть не только искренним, но и серьезным, не заискивать, но и не раздражать, — попробуйте, однако, сами предпринять нечто в этом роде, и вы обнаружите, что за исключением тех случаев, когда вами движет какое-то заветное убеждение, нет ничего труднее, чем рассуждать о себе с важной миной, отказываясь от разнообразных приятных возможностей, которые открывает шутливое нахальство; вы побоитесь выглядеть смешным, и, сколь бы обдуманными ни были ваши излияния, в них обязательно будет сквозить ирония, неудержимо пробивающаяся наружу. Трус прячет истину под оболочкой двусмысленной дерзости или балагурства: ты меня презираешь, читатель, но сам видишь, как я раздуваю свои пороки; вот и суди как хочешь; ничто не мешает тебе считать все, что я плету, фантазиями человека с душой нараспашку, чьи поступки, да и мысли тоже, едва ли заслуживают осуждения. Итак, перейдем к этим самым причинам. На деле их всего-то одна и, должен сказать, как нельзя более комичная.
Уверен, почти всем вам случалось оказываться в ситуации, когда вас хватает за лацкан один из тех болтунов, которые, сгорая от желания наполнить воздух звуками своего голоса, ищут партнера, чья роль будет заключаться лишь в том, чтобы внимать чужим речам, но не чувствовать надобности раскрывать рот самому; скажу больше: назойливому господину не нужно даже, чтобы его слушали, с него довольно, если вы примете заинтересованный вид, будете время от времени согласно кивать головой или примешивать к его рацеям негромкое хмыканье, справедливо именуемое романистами одобрительным, или мужественно, превозмогая усталость, которая рано или поздно овладеет вами при столь сильном мускульном напряжении, встречать устремленный прямо на вас неотступный взгляд бедолаги. Присмотримся к этому человеку. То, что он испытывает потребность говорить и что ему при этом нечего сказать, мало того — что он не мог бы удовлетворить свою потребность без более или менее молчаливого содействия партнера, которого выбирает, если есть возможность выбирать, как раз за сдержанность и терпеливость, — факт, безусловно заслуживающий осмысления. Да, сказать этому типу буквально нечего, но все-таки он трещит без умолку; ему наплевать на то, согласен с ним слушатель или нет, но все-таки без слушателя он обойтись не может, хотя и смекает, что не нужно требовать от него большего, нежели чисто внешние признаки внимания. Его как будто поразила необоримая страсть — или, чтобы воспользоваться знакомым сравнением, ему также трудно, как ученику чародея: пущенный механизм работает впустую, управлять его беспорядочным движением он не способен[1]. Так вот, осмелюсь сказать — пусть мое признание сразу же оттолкнет от меня многих читателей, — что я принадлежу именно к этому разряду болтунов.
Однако для тех, кого столь безрадостное известие не заставит отвести глаза от этих строк, я считаю необходимым вернуться к истокам моего заболевания, хотя описать его и помочь читателям составить о нем ясное представление, если только они сами не были подвержены этой болезни, — задача, по-моему, очень трудная и едва ли разрешимая.
Начну с того, что чрезвычайно возбуждающий характер климата и местности, где при определенном стечении обстоятельств случился первый припадок, о котором я собираюсь рассказать, заслуживает, видимо, более подробного описания, но его мог бы вам дать лишь автор, стремящийся тронуть сердце своего читателя, искушенный в упражнениях такого рода и наделенный соответствующими природными дарованиями, на что я отнюдь не притязаю. Избрав этот путь, я нарушил бы зарок: не прибегать к избитым литературным приемам, которые мне претят. (Не стоит принимать последнюю фразу всерьез: претят они мне только потому, что я ими не владею.)
Итак, однажды в воскресенье, ближе к вечеру, у меня было как-то особенно скверно на душе, до того муторно, что я вдруг надумал уйти из дому и отправиться на берег моря: немного поплескаться, развеять тоску. Мне захотелось окунуться с головой, хлебнуть соленой водички, вынырнуть, стряхивая с волос брызги, проплыть ровными гребками какое-то расстояние, потом перевернуться на спину и лежать неподвижно, чувствовать, как прохладные волны то поднимают тебя вверх, то опускают вниз, а солнце жжет лицо. Но сначала пришлось идти в гору, под гору, перейти по мосту реку, пересечь долину, заросшую густым лесом, а затем, с трудом пробираясь сквозь высокую траву, большое поле, и вновь в гору, под гору, через лес, время от времени останавливаясь и переводя дух под деревьями, опять в гору, под гору, через лес, через заросли колючего кустарника, и все это под палящим солнцем, — прежде чем я вышел к меловому обрыву, нависавшему над морским берегом. Я так взмок, карабкаясь по склонам холмов и отыскивая дорогу в чаще, что поспешил растянуться у края обрыва, с радостью привалившись спиной к стволу одинокой сосны, которая укрыла меня свежей душистой тенью. Так я лежал долгое время, предаваясь мечтаниям на свой, особый лад, без всякой связи, как, наверно, грезят собаки, когда их оставляют в покое и им уже не хочется ни охотиться, ни вилять хвостом, ни даже дремать: подобные минуты для меня — думаю, и для собак тоже, — тем более сладостны, что выпадают весьма редко. Теперь у меня было только одно желание: не двигаться и ждать наступления сумерек. Глядя на сияющее голубое небо, по которому плыли несколько белых облачков, и ощущая, как сильно раскалилась под солнечными лучами видневшаяся невдалеке белая скала, я был счастлив, как чувствуете себя порой счастливыми вы, когда сваливаете с плеч бремя домашних забот и наконец получаете в свое распоряжение нечто милое вашему сердцу, наполняющее вас приятным чувством одиночества и отрешенности от всего, чему придают столько значения другие люди. Да, острее всего я ощущал именно то, что далек от людей и что все их заботы не имеют в моих глазах никакого смысла. Я бы не стал так долго распространяться о блаженном состоянии, которым тогда наслаждался, если бы всего час спустя у меня не появился повод предположить, что это состояние было прелюдией и в какой-то степени источником моей болезни, первого ее проявления в активной форме. Лежа под сосной, я долго смотрел в небо, поглощенный чисто животным созерцанием, исполненный глубокого спокойствия и твердо убежденный, что в этот вечер со мной может случиться только что-то очень хорошее. Но когда я обнаружил, что небо начинает меркнуть, воздух уже не так обжигающе горяч, а гул моря заметно отдалился, поскольку вечерний отлив, видимо, достиг крайней точки, моя безмятежность сменилась странным душевным подъемом, выразившимся в неудержимой потребности сейчас же произнести какую-нибудь речь, причем меня вовсе не тревожило, могу ли я связать хоть два слова, и еще меньше интересовал предмет будущего рассуждения, — тут мной овладело такое волнение, что я вскочил как подброшенный. Однако речи так и не начал: губы мои никак не хотели разжиматься, и я молча стоял, ожидая, пока эта жажда ораторства уймется сама собой. Но чем дольше я ждал, тем хуже себя чувствовал. Чтобы дать вам более ясное представление, скажу: мне было так же худо, как человеку, который ощущает тошноту после чересчур плотного обеда, принимает сильнейшее рвотное и все-таки не получает облегчения. В действительности этот припадок длился недолго, и я о нем забыл сразу, как только он миновал, — я успокоился в ту же минуту, но, увы, не обрел прежнего чудесного воодушевления. Между прочим, когда несколькими днями позже случился новый припадок, мне пришлось изведать жестокую досаду, потому что на этот раз я не насладился воспарением духа, которое выше попытался кое-как описать и поначалу счел связанным неразрывной причинно-следственной связью со сменившим его страданием, — с горьким сожалением подумал я тогда, что даже если этот взлет и это падение соединились друг с другом по чистой случайности, первый с лихвой вознаграждает за второе. Еще раз вернусь к природе недуга: он был примечателен тем, что проявлялся в странной потребности говорения, которую я не мог удовлетворить, и по самой простой причине: слова не приходили мне на выручку; совсем коротко: говорить-то я хотел, но сказать мне было нечего.