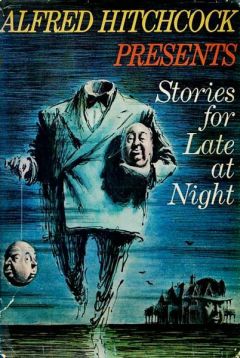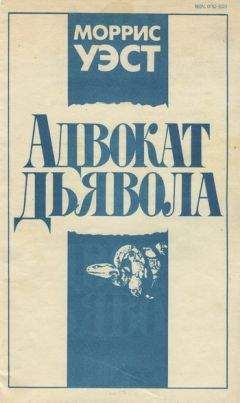Нина Георге - Лавандовая комната
Будет ли мне не хватать Люка? Он всегда был рядом, я не знаю чувства тоски по нему. Оно бы мне понравилось. Мне было бы приятно скучать по нему. Мне незнакома эта тянущая ноющая боль, о которой говорила, многозначительно опуская слова, кузина Дафна «Я слишком толстая»: «Такое ощущение, как будто мужчина бросил якорь в твою грудь, в твой живот, прямо между ног. И когда его нет, то как будто натягивается якорная цепь и все тянет, тянет…» Образ, конечно, уткий, но она при этом улыбалась.
Что же это, интересно, за ощущение – так хотеть мужчину? А я? Я тоже бросаю якорь в него или мужчина легче забывает? Может, Дафна просто вычитала это в одном из своих дурацких романов?
Я все знаю о мужчинах, но ничего о мужчине. Каков он, мужчина, когда он с женщиной? Знает ли он в двадцать лет, как будет любить ее в шестьдесят? Ведь в отношении своей работы он точно знает, как будет думать, действовать и жить в шестьдесят?
Я вернусь через год, мы с Люком отпразднуем свадьбу, как птицы. А потом будем делать вино и детей год за годом.
На этот год я свободна. Как и на все остальные. Люк не станет ни о чем меня спрашивать, если я как-нибудь приду домой поздно или вдруг захочу поехать в Париж или еще куда-нибудь. Это его подарок ко дню нашей помолвки – свобода в браке. Он такой.
Папа бы его не понял – свобода от верности? Из любви? «Дождя тоже на всю землю не хватает», – сказал бы он. Любовь – это дождь, мужчина – это земля. А мы, женщины? «А вы возделываете мужчину, он расцветает под вашими руками. Вот она – власть женщин».
Я еще не знаю, нужен ли мне подаренный Люком дождь. Этого дождя слишком много. А может, меня слишком мало?
Хочу ли я отплатить ему тем же? Люк сказал, что не настаивает на этом и что не ставит никаких условий.
Я дочь высокого толстого дерева. Я стала кораблем, без якоря и без флага, я вышла в открытое море на поиски света и тени, я пью ветер, позабыв о причалах.
Обреченная на свободу, подаренную ли или взятую самовольно.
Ах да, прежде чем моя внутренняя Жанна д’Арк опять сдерет с себя рубашку и продолжит свои лирические стенания, я должна упомянуть вот еще о чем: я и в самом деле познакомилась с мужчиной, который видел, как я плачу и пишу свой дневник. В купе вагона. Он увидел мои слезы, а я стала прятать их и это свое детское «отдай мою куклу!», в которое я каждый раз впадаю, стоит мне только покинуть свою маленькую долину…
Он спросил, сильно ли меня одолевает тоска по родине.
– А почему вы решили, что это тоска по родине? Может, это любовные муки, – сказала я.
– Тоска по родине – это тоже любовные муки. Только хуже.
Он продавец книг. Для француза он довольно высок, зубы у него белые и блестящие, глаза зеленые, как трава. Напоминают цветом кедровую обшивку моей спальни в Боньё. Губы как черный виноград, волосы густые и жесткие, как ветви розмарина.
Его зовут Жан. Он перестраивает фламандскую баржу, хочет устроить на ней огород целебных книг. «Выращивать бумажные лодки для души», – сказал он. Это будет «аптека», литературная аптека, для всех чувств, от которых нет лекарств. Например, таких, как тоска по родине. Он говорил, что есть разные виды тоски. Жажда чувства защищенности, мечта о семье, страх расставания или любовная тоска.
– Острое желание поскорее полюбить что-нибудь хорошее: место, человека, какую-нибудь определенную кровать.
Он говорил это так, что его слова не казались смешными, а, наоборот, выглядели очень логичными.
Жан пообещал мне дать книги, которые утолят мою тоску по родине. Он говорил об этом как о какой-то полумагической, но все же официальной медицине.
Он показался мне белой вороной, умной, сильной и как бы парящей над вещами. Он – как большая гордая птица, стерегущая небо.
Нет, я не так выразилась: он не обещал мне дать книги – он сказал, что терпеть не может обещаний. Он просто предложил мне их.
– Я могу вам помочь. Если вы не хотите больше плакать или, наоборот, хотите грустить. Или смеяться, чтобы меньше плакать. Я помогу вам.
Мне хочется его поцеловать, чтобы посмотреть, что́ он может – только говорить и знать или еще чувствовать и верить.
И как высоко он умеет летать, этот белый ворон, который видит все, что творится у меня в душе.
15
– Я хочу есть, – говорил Макс.
– А у нас достаточно питьевой воды? – спрашивал Макс.
– Я тоже хочу порулить! – канючил Макс.
– Неужели на борту нет ни одной удочки? – ныл Макс.
– Без телефона и кредитных карточек я чувствую себя каким-то кастратом. А вы? – вздыхал Макс.
– Нет, – отвечал Эгаре. – Вы могли бы заняться уборкой. Это своеобразная двигательная медитация.
– Уборкой? Вы серьезно? О, смотрите! Опять шведские парусники! Они всегда идут прямо посредине реки, как будто это их собственность. У англичан другая манера: они ведут себя так, как будто судовождение по плечу только им одним, а остальным лучше аплодировать с берега и махать флажками. Ну, с этими, правда, все ясно – Трафальгарское сражение… Они, наверное, до сих пор задыхаются от гордости. – Он опустил бинокль. – А у нас-то есть флаг на заднице?
– На корме, Макс, на корме. Задница судна называется кормой.
Чем дальше они продвигались вверх по извилистой Сене, тем возбужденней становился Макс и тем спокойней Эгаре.
Река, описывая широкие дуги, неспешно катила свои воды сквозь леса и парки. По берегам тянулись обширные фешенебельные земельные участки с домами, старинные фасады которых красноречиво говорили о том, что за ними нет недостатка ни в деньгах, ни в семейных тайнах.
– Откройте ящик с инструментами, там где-то должны быть флаг и вымпел-триколор, – сказал Эгаре. – И поищите заодно железные колышки и молоток; они вам понадобятся для швартовки, если мы не найдем подходящую пристань.
– Понял. А если я не знаю, как нужно швартоваться?
– Об этом написано в книге «Отпуск на плавучей даче».
– А про рыбалку там не написано?
– В разделе «Как горожанину выжить в провинции».
– А где искать ведро и швабру? Тоже в книге? – весело хрюкнул Макс и опять надел свои наушники.
Эгаре заметил впереди несколько каноэ и, потянув шнур сигнальной сирены, дал протяжный гудок. Звук – низкий, мощный – словно током пронизал Эгаре от макушки до кончиков пальцев ног.
– О!.. – шепотом произнес мсье Эгаре и еще раз потянул за шнур.
Такое могли придумать только мужчины.
Гудок и его эхо в груди и животе воскресили в памяти ощущение кожи Катрин под его пальцами. Мягкой, теплой, гладкой. Нежной упругости и округлости ее плечевых мышц. Это воспоминание на мгновение совершенно выбило его из равновесия.
Прикасаться к женщинам! Плыть по реке на барже! Просто удрать!
Миллиарды нервных клеток проснулись в нем, поморгали спросонья, потянулись и сказали: «Класс! Вот этого нам как раз не хватало! Давай! Еще! Жми на газ!»
Правый борт, левый борт, фарватер, обозначенный цветными буями, – руки еще помнили штурвал и сами делали все, что от них требовалось, уверенно ведя судно по этому коридору. А женщины – мудрые существа, у которых чувства не вступают в противоречие с мыслями и которые в любви не знают границ.
И берегись бурунов перед шлюзными воротами!
Берегись женщин, которые всегда хотят быть слабыми. Они не прощают слабость мужчинам.
Но последнее слово за шкипером.
Или его женщиной.
Однако надо же будет где-то причалить? А пришвартовать эту калошу так же просто, как отключить ночные мысли.
Ерунда! Выберем вечером какую-нибудь особенно аппетитную, длинную, снисходительную набережную, аккуратно задействуем (если найдем!) вертикальный руль и… Что – «и»?
Может, все же причалить прямо к берегу?
Или просто плыть и плыть на край света. Пока жив.
Из какого-то ухоженного сада на берегу на него смотрела группа женщин. Одна из них помахала ему. Им здесь не каждый день приходилось видеть грузовые баржи или фламандские сухогрузы – отдаленных предков «Лулу», – которыми правят невозмутимые капитаны, небрежно закинувшие ноги на высокий табурет и легко поворачивающие огромный штурвал одним пальцем.
Потом цивилизация вдруг кончилась. После Мелёна их обступили по-летнему яркие зеленые просторы.
А запахи! Такие чистые, свежие, тонкие!
И было что-то еще, что резко отличало здешние места от Парижа. Вернее, чего-то здесь не было. Чего-то, к чему Эгаре настолько привык, что отсутствие его вызвало у него легкое головокружение и какое-то странное жужжание в ушах.
Наконец он понял, в чем дело, и почувствовал огромное облегчение.
Здесь не было шума автомобилей, гула электричек метро, жужжания кондиционеров. Ровного гудения миллионов машин и механизмов, лифтов и эскалаторов. Здесь не было утробного рева сдающих задом огромных фур, визга тормозных колодок поездов, стука каблуков или хруста гальки под ногами. Уханья мощных басов из окна какого-то жлоба, живущего через два дома от него, стука скейтбордов, треска мопедов.