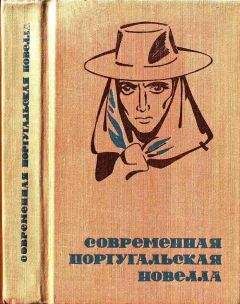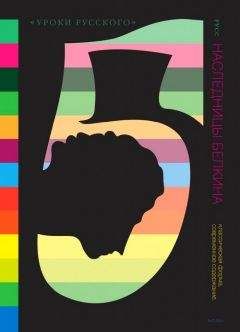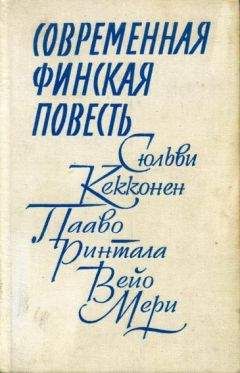Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
Или ты, Мануэл, — обманчиво нежный, с мягкими волосами и задумчивым взглядом мятежного ангела, — мастер дерзких вылазок, оставлявший в дураках преследователей? Тебя истязали непрерывным допросом, не давали спать, но ты на скамье подсудимых поклялся продолжать борьбу. Это был словно сигнал к бою! А потом, на больничной койке, ты улыбался доброй и ясной улыбкой, жуя тюремную корку… Ты такой искренний, ты так влюблен в справедливость, что никогда не перестанешь бороться за нее, даже после победы. Нашей победы. Победы народа.
Я перепробовал много профессий, но ни одна из них не наложила на меня своего отпечатка: выполняя те или иные обязанности, я остаюсь на поверхности, не проникаю вглубь. Чего я только ни делал: вел конторские книги, составлял списки абонентов телефонной сети, был служащим профсоюза, потом — сотрудником фирмы «Смит и Флоренсио», но автомобиль же смог купить только тогда, когда перешел в категорию «творческих работников». А вот от сотрудничества в отделе рекламы я отказался; не могу без содрогания вспомнить период, когда я расписывал зеленеющий благоуханный рай с зеркальными водоемами, тенистыми рощами, уютными гаражами (которые непременно будут построены), а на самом деле это был пыльный каменистый участок, до ужаса безобразный и нездоровый, где размещались стандартные сборные коттеджи. Пока я не видел участка, я без особого отвращения писал для газет и журналов многословные умильно-сладкие описания на три-четыре колонки, писал так, чтобы у читателя разгорелись глаза и разыгралось воображение. Но после того как я съездил туда, чтобы ознакомиться со строительством поближе, я не написал больше ни одной строчки, на том дело и кончилось.
* * *Где тот уютный домик (да и был ли он, существует ли сейчас?), в котором я провел безумную ночь? Я и теперь время от времени переживаю ее вновь. Снимаю с себя, как одежду, все, что обволакивает сегодня мое тело (и мою душу), споласкиваю лицо холодом иных улиц, иного квартала. Помню красный свет лампы. Мелкий дождь за окном. «Смерть — это расстояние между двумя отрезками жизни». Так, кажется, она сказала. И эта фраза не показалась мне смешной.
Я сам обрек себя на воздержание, на предрассветное одиночество. Перевожу роман Достоевского, но увлекаюсь и горю так, как если бы писал свой собственный. Сняв боевые доспехи, возвращаюсь в ту ночь, ищу ее, ищу тебя. В Лиссабоне в ночной час полно свободных от семейных уз иностранцев и иностранок, волосатиков и проституток-африканок. Познакомиться с ними поближе я бы не прочь, но надо идти дальше навстречу ночи. В эту минуту я ищу тебя, хоть и знаю, что не найду. Была резная скамья, были твои ноги, стройные, как у молодой кобылицы, были губы, мягкие, словно лепестки роз, и на вкус они были как цветочный нектар… Пахли пыльцой…
* * *Бог. О нем я теперь уже не думаю. Я изучил — скверно, но изучил — диалектический материализм, историю религии, познакомился с различными учениями и нашел в них одни предрассудки. И я подавил атавистические страхи, что прятались в глубинах моей души и всплывали наружу в минуты тоски, стал жить без страха смерти, без молитв и проклятий. В трудных обстоятельствах воздвигаю вокруг себя баррикаду рационализма и бесстрастия. Не всегда это полностью удается, так что временами я корчусь в кошмаре и кусаю сам себя, как скорпион, чтобы у меня не сорвалась с языка пустая и бессмысленная мольба, вопль страждущего, даже не вопль, а привычный вздох: «Боже мой!»
Не то чтобы я убил бога, на такое у меня не хватило бы духу, он сам рассыпался у меня на глазах, как замок, сложенный из легенд, мнимых таинств и надуманного величия, я даже и не дунул на него. Вот и все.
Но я еще не подобрал слов, чтобы определить мои чувства в миг созерцания, когда я забираюсь в горы на край моего света и ощущаю поцелуй природы, горячий, живущий вечной (так ли?) жизнью, переполняющий восторгом мою душу. Да, я верую в человека и в науку. В ту науку, что каждый день делает новый шаг, опровергает сама себя и смеется над тупыми скептиками. Я верю в науку, но я из тех, кто разговаривает с ветром, с листьями черного тополя, из тех, кто мятется в тоске, но не по господу богу, а по мягкой зелени всходов в час заката, по узкой полоске белого песка на морском берегу, где я ложусь и умираю, положив щеку на мягкий барханчик…
* * * Драматический монолог-исповедь в чисто португальском вкусеЯ родился в Алфаме[108]. Детство мое прошло в царстве бедности и воздержания. Теперь говорят, я дешевый резонер, набитый парадоксами. Живу и работаю среди буржуа, но они меня не понимают (я их тоже). Да и где же им меня понять! Попробую все-таки объясниться.
Возьмем хотя бы отношения полов. Власть имущие поощряют брак. Зачем? А чтобы связать человека. Когда у тебя жена и дети, ты не станешь бунтовать и будешь исправно тянуть лямку, ты окутан невидимой сетью, экономически закабален.
А моя жизнь? Взрослые твердили мне, что бяку в рот брать нельзя, пипку теребить — боже упаси и тому подобное. А я с завистью взирал на мальчишек постарше, таких же дурачков, каким был и я, но задиравших передо мной нос: Ренато, мол, у нас еще девственник, невинный ягненочек! Я смущался, робел, чувствуя свою неполноценность. Мне в то время уже показывали порнографические открытки, которые тревожили мое воображение намного больше, чем женщины во плоти. А еще я вожделел к красавицам в бикини на обложках календарей (нынче их фотографируют совсем голыми). Герои фильмов только и делают, что целуются, то и дело льнут друг к другу дома и на улице.
И вот в один прекрасный день я решил стать мужчиной, вкусить греха, избавиться от бремени непорочности. В Моурарии[109] какая-то тетка спросила, не хочу ли я сделать ей ребеночка всего за семь с половиной эскудо. Я пошел к ней. Она разделась донага: старая, с дряблой кожей, беззубая, с волосатыми грудями и отвисшим животом. А я все не мог решить, надо ли и мне раздеваться или нет, как бы она не оскорбилась. Да и мужские мои причиндалы не шли ни в какое сравнение с теми образцами, которые я видел на порнографических открытках. Но дело надо было довести до конца, на карту была поставлена моя «честь». И я навалился на женщину одетый, в каком-то трансе сделал, что положено, заплатил и со всех ног побежал рассказывать мальчишкам из нашего двора.
* * *Другие профессии: гид-переводчик, репетитор, внештатный преподаватель (затычка для случайных «окон»). Список можно продолжить. Намного проще сказать «я делал то-то и то-то», чем уяснить для себя самого, каков ты есть и почему ты именно таков. Может, мое настоящее «я» — только сегодняшнее, изваянное мной самим, или же мое вчерашнее, позавчерашнее «я», вылепленное из праха какими-то случайными обстоятельствами? Насколько искренни мои песни протеста? Написал я их с полдюжины, а будет ли их кто-нибудь петь? Не знаю. Делай, как я говорю, но не делай, как я.
Выстоять — как просто написать это слово, не правда ли? Ну ладно, как бы там ни было, ренегатом я не стану (правда, мне еще не рвали один за другим здоровые зубы). Я ни разу никого не выдал. Не «раскололся». Но есть ведь еще повседневные малюсенькие уступки, дерьмецо на кончиках пальцев, въевшаяся в ноздри вонь!..
Прошлым летом я поехал на каникулы в Париж. Сколько моих соотечественников прямо-таки бедствует в зыбкой трясине бульваров! Некоторые из них становятся французами (что поделаешь!), из них выходят французские экономисты, врачи, рабочие. Другие разыгрывают всем знакомый сценарий: пишут манифесты за столиком кафе, изгоняют друг друга из разных смехотворных групп и группок, смотрят сверху вниз и без особого участия на суету обездоленных лузитанских червей земных (убаюкивающая картина сонного отупения и покорности), да на жеребцов-производителей, что носятся вскачь по нашей земле, топчут ее, портят, делают еще менее пригодной для грядущих поколений. Этим не до компьютеров, им некогда считать да рассчитывать, они берут все, что попадает под руки, лишь бы сразу. Расходов не жалеют, благо труд новых рабов все окупит.
Здесь, среди эмигрантов, попадаются и по-настоящему деятельные: тоскующие по родине, не питающие напрасных иллюзий, но стойкие, хоть порой их твердость испытывается нахлынувшим отчаянием. Они выдержанны и осторожны; именно они, разрывая оболочку собственной изолированности, уходят в мрак подполья. Правда, это осложняет их жизнь, когда они вновь переходят на легальное положение, но им это нипочем, они продолжают борьбу, откуда только силы берутся; когда я слышу (не вслушиваясь) их речи, эти люди хоть и представляются мне застывшими стеклянными фигурами, но я восхищаюсь ими, у них, видно, хватает запала.
И есть еще Ким, да не один, кимов много.
Во время наших обедов, когда смех звучит громко, слова сочувствия глубоко запрятаны, а рыдания глохнут в салфетке между saucisson[110] и côte de veau[111], когда он осушает залпом un pichet de rouge[112], а я потихоньку жую жвачку собственных переживаний, я думаю о том, кем мог бы и должен был стать Ким — продюсером, критиком, творцом — и что он есть — veilleur de nuit, ночной сторож в гостинице, живущий в вечном страхе потерять место… Даже раздобревший, — но это нездоровая полнота, от сердечной недостаточности. Он отошел от всего. Сдался. Иногда взрывается за кофе и коньяком: «Ты еще увидишь, как имярека разденут догола в Террейро-до-Пасо, вымажут дегтем, вставят в задницу страусиное перо… И понесут… Я никому смерти не желаю, но…»