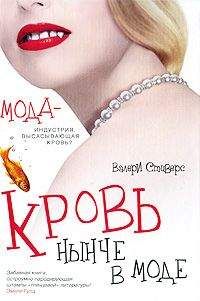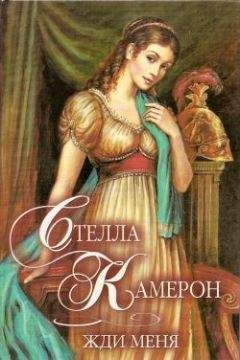Владимир Гусев - Дни
— Маша Осенина.
Он покосился на жену.
Пауза.
— Ей сделали операцию.
— Ка́к она себя чувствует? — без зазора, четко и «сонно» спросил Алексей.
— Ну… как всегда в таких случаях.
— А какой случай?
— Случай… довольно сложный. Поступила поздно.
— Приехать… можно?
Он чуть сорвался голосом.
— Передача; а так — мы не пускаем.
— Спасибо.
Он положил трубку.
Алексей все сидел над телефоном, не оглядываясь на жену; это длилось мгновение; но тут же она — спросила:
— Что?! Сделали?!
— Да, — сказал он, помедлив. Она уныло зарыдала в голос.
— Я знала… я знала, что ее резали, — повторяла она.
Он молчал.
Молчал, сам сбитый с колеи — и молчал, интуитивно давая пройти мгновению.
— Вот не спросил я… когда там… передачи и когда — врач и… — заговорил он наконец будто неуверенно.
— Да что там — когда… «Когда»… Сейчас еду… Сию минуту… Маша…
Она забегала по комнате.
— Ты — ты вот что. Не суетись, — «спокойно» сказал Алексей, подождав немного. — Дело тут не в минуте. Теперь дело не в минуте.
— Сейчас… еду… Маша…
— Да успокойся… да уймись ты! — сказал Алексей. — Сейчас и поедем. Но не мечись; от этого только хуже: пойми… наконец-то.
— Сейчас… я еду… А что она тебе сказала? Положение плохое, да? Я знала.
— Ничего такого она не сказала.
— А что́ она сказала? Маша…
— Уймись ты, говорю я. Сядь… черт возьми.
Она села на край дивана: с таким видом, что ей, мол, приходится выполнить это условие, чтобы все услышать о Маше.
— Это аппендицит?
— Да.
— Я знала… я знала… о… я знала…
— Да прекрати! Что ты знала? Аппендицит! Бывает и…
— Да! тебе… ты жёсткий человек. С твоей гносеологией…
— Ладно. Так вот…
— Что она сказала — о состоянии?
— Ну, что сказала.
— Нет, ты говори.
— Какие-то сложности. Затянули вы… черт возьми.
— «Вы!..» «Вы!..»
— Ну, не ты.
— Так что же?
— Не знаю. Надо ехать.
— Да. Ехать… ехать так ехать.
Она сделала жалкую попытку на собранность и решительность.
— Погоди. Да не суетись ты! Что ты, их не знаешь, что ли? У них сейчас мода — говорить как можно хуже. Обойдется, так вроде вылечили — их же заслуга; не обойдется — мол, «мы же говорили».
— Не обойдется?.. Не обойдется?!.
— Стой тихо!
— Звонить… Кому звонить… О, кому звонить… Мама… — Мама далеко, — понизив голос, глотнув, ответила она себе. — Кому? Позвони ты своим… приятелям, все они такие… ловкие, здешние… все они… что-нибудь могут.
— Погоди, однако. Сначала поедем. Мы ничего не знаем.
— Поедем… поедем… Маша…
Выходя у «детской хирургии и травматологии» на Полянке, Алексей кроме скрытых страха и боли испытывал еще и то знакомое противное серое чувство, которое он всегда испытывал, входя в сферу больницы; так было и с Ириной и в иных случаях; оголтелое, унылое напоминание о голой и светло озаренной бренности всего земного, с которым связан весь антураж больницы, — порой нестерпимо для живого, слабого сердца.
Они вошли; разумеется, вестибюль унылый; разумеется, окно «белое»; разумеется, толпится народ…
Мамы… папы… «бабы»…
Прошли сестра с нянечкой — белый, серый халаты.
— Ну, я и говорю, — вещала сестра дюжая. — Я говорю: вы чего ж живого ребенка ногами вперед везете? Это ж не в…
Он кратко вспомнил… и поморщился.
Они прошли.
«А, ччерт».
Он покосился; жена на миг зажмурилась, как от блеска; «живого ребенка», — шепотом повторила она.
— Шекспир был бы счастлив, — угрюмо «сострил» Алексей; инстинктивно он чувствовал: единственный выход — это держаться с ней «жестким» образом.
Они подошли к таблице.
Знакомая картина; чернильные фиолетовые линейки, цифры.
Он начал искать глазами.
Вот оно.
«Осенина Маша. Температура: 39,2. Состояние: среднетяжелое», — читал он про себя.
Будто серый укол под сердце, мелькнуло это «среднетяжелое».
И стало расплываться от места укола: как кровь от раны.
«Среднетяжелое»… как угроза.
Это «средне».
В просто «тяжелое» есть ясность; но «средне».
«Средне», которое на некоем черном канате.
«Средне», которое в любой миг может перейти в… в нечто темное.
Да.
Так.
И нет, нет Маши — не видно; где?
Где она?
Жена, молча прочитав, стала молча же, туда и сюда, сцепив руки перед собой, ходить по вестибюлю — грязный, желто-красный шахматно-кафельный пол; он молча же встал в очередь к их окошку. Подождав женщин с их напряженными или убито-плаксивыми и словно бы притворными в этой убитости лицами, — он не раз замечал, что истинное горе выглядит неестественно, что оно не умеет «подать себя», — он всунулся в окно; четко зеленые стены и четкий свет, и четкие очки у старухи, дающей эти ответы; все в противовес смуте, неуюту и тоске вестибюля. Таблицы и графики, и списки; все вроде б и успокаивает.
— Маша Осенина… вчера была операция.
— Так… Вам надо поговорить с врачом.
Пауза.
Вечные эти… загадки; любят у нас… это.
Будто нельзя… «не играть на нервах»…
Как бы отвечая ему, старуха сказала:
— Состояние… удовлетворительное. Но случай был не простой. Вам надо поговорить с врачом.
— Когда, где?
— Он скоро выйдет. Подождите.
«И то… слава богу».
Он отошел и начал — «от нечего делать» — читать таблицу: ту самую.
Впрочем, не совсем от нечего делать: он, сначала освоив первое и больное, пошел вокруг.
Он стал смотреть на столбцы у других детей.
Он обратил внимание, что слово «удовлетворительный» — это не слово, а термин; что больные разделены на градации — «тяжелое», «среднетяжелое», «удовлетворительное». Перед неким мальчиком было — «очень тяжелое»; он сразу же как бы представил его… колбы, трубки и «кислород».
— Что? — спросила жена; минуту она не решалась подходить — и он не подходил к ней; ему надо было решить… как формулировать.
Вообще, это уж возникло — как обычно; кроме самого несчастья, «проблемы», есть еще — жена… «как с ней».
— Говорит, состояние удовлетворительное, но надо поговорить с врачом.
— А что это… за «среднетяжелое»… — Ее передернуло после «средне». — У них какие данные… утро, ночь…
«Черт… а ведь и верно — какие же данные более поздние? Та говорит — удовлетворительно; да и по телефону они сказали… что-то такое… А здесь уж (уж!) — «среднетяжелое». Было удовлетворительное, а стало среднетяжелое?! А что же будет через два часа?! Нет, это…»
Он, хмурый, снова встал в очередь.
— Извините, — сказал он, дойдя. — Это все — Маша Осенина. Вы сказали — удовлетворительное, а там, — он указал в сторону списка, — там среднетяжелое. Какие данные более новые?
— Вы же понимаете, была операция, — устало-сухо сказала старуха в четких очках. — Там, здесь — это пока неважно. Вам надо поговорить с врачом.
Не найдя немедленного следующего вопроса — как в, очереди за железнодорожными билетами! — он отошел.
«Не хочет сказать? Не знает? А черт их знает. Со стороны — оно было б видно. А когда на себе…»
— Что?
— Да ничего. Ни черта они пока не знают. Надо и верно — врача.
Они слонялись по вестибюлю: порознь.
Встречались, говорили о том о сем; потом опять расходились…
Кругом сидели и ходили такие же люди; все как-то обходили друг друга; подобные несчастья не сплачивают людей; каждый видит, что и ему, и другому никто не поможет, «кроме господа бога».
Ходили…
Наконец вышел врач; его окружили сразу.
Он уселся на стул у голого «своего» стола; ему называли фамилии, детские — уменьшительные — имена; он давал разъяснения; мужчины слушали угрюмо, стесняясь чувств; женщины — матери, бабушки — не хотели «отпускать» врача к «следующему» — все задавали да задавали свои извечные «бестолковые» женские вопросы:
— А как он ест?
— Да нельзя ему еще есть как следует… Кормим… кормим. Так. Вы?..
— Нет, доктор (почему-то врача, в несчастии, зовут «доктор»! Что за странное заискивание!). Нет, доктор… я еще хотела спросить!..
— Да! — устало-терпеливо поворачивался назад, кивал нестарый чернявый врач.
— Я хотела спросить…
— Да… да.
— Это что? Вот это что — «флегмонозный»? Это уж… это уж… как… или как…
— Это ничего. Прободения нет. Это — ничего. Будем лечить.
— А… сколько ж ему тут быть?
— Сколько? Ну, еще две недели.
— Две… недели?!
— А что, мама? Бывает и месяц. Вам повезло. Все пойдет хорошо — выпишем через десять дней.