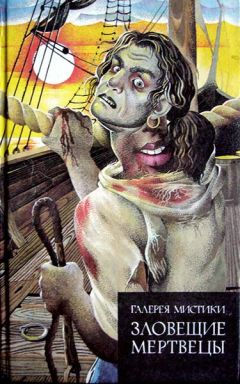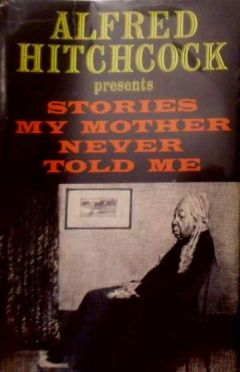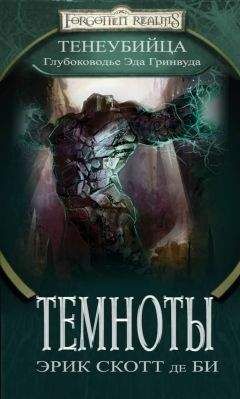Максимилиан Волошин - Аполлон и мышь

Обзор книги Максимилиан Волошин - Аполлон и мышь
Максимилиан Волошин
Аполлон и мышь
Когда Бальмонту было двенадцать лет, на его письменный стол пришла белая мышка.
Он протянул к ней руку. Она без страха взбежала на ладонь, села на задние лапки перед его лицом и запела тоненьким мышиным голосом.
Так много дней она приходила к нему, когда он занимался, и бегала по столу; но однажды, в задумчивости опершись локтем, он раздавил ее и долго не мог утешиться.[1]
Нет никакого сомнения в том, что эта белая мышка о чем-то ему пророчила, и, вероятнее всего, это была сама его муза. Последнее подтверждается той мифологической связью, которая существует между Аполлоном и мышью.
В первых строках Илиады мы читаем воззвание к Аполлону-Сминфею[2] – Аполлону Мышиному.
Известна статуя Аполлона работы Скопаса, где солнечный бог изображен наступившим пятой на мышь.[3]
Есть сведения, что в некоторых городах Троады под алтарями Аполлона жили прирученные белые мыши, а на острове Крите изображение их стояло рядом с жертвенником бога.
Таким образом, с культом Аполлона-Сминфея связаны обе эллинские области, над которыми для нас глубже всего разверзалось время под кирками Шлимана и Эванса.[4]
Одни объясняют связь этого зверька с Аполлоном тем, что Аполлон на некоторых островах, как например на Тенедосе, являлся истребителем мышей, которых он сам же пред этим наслал на страну.
Другие предполагают, что этот атрибут является указанием того, что в некоторой местности культ старых полевых богов, имевших связь с мышью, был вытеснен культом Аполлона.
Но эти исторические пояснения мало удовлетворяют нашему любопытству. Символ по своему внутреннему свойству не может быть объяснен фактической последовательностью своего возникновения; он указывает нас к новым волнующим сближениям и аналогиям. Так, вспоминая то движение локтя, которым была раздавлена белая мышка Бальмонта, мы сопоставляем его с мышью, что изображена под пятой Аполлона, и мысль о символическом значении этого жеста возникает невольно.
Мышь не является постоянным спутником Аполлона, как змей, как лавр, но присутствие ее всегда то здесь, то там чувствуется в аполлиническом искусстве; легкое, волнующее, еле уловимое, ускользающее присутствие.
Как понять эту таинственную связь маленького серого зверька с сияющим и грозно-прекрасным богом? Как разгадать эту загадку мыши?
Обратим внимание на то, в какие моменты душевных состояний появляется образ мыши в произведениях аполлинийских поэтов.
Самому ясному и аполлиническому из русских поэтов во время БЕССОНИЦЫ слышится:
«Парки бабье лепетанье, жизни мышья беготня…».[5]
У Бальмонта в соответственном стихотворении, написанном тоже во время бессонницы, мы читаем:[6]
В углу шуршали мыши,
Весь дом застыл во сне.
Шел дождь, и капли с крыши
Стекали по стене.
Шел дождь унылый, вялый,
И маятник стучал,
И я душой усталой
Себя не различал.
У Верлэна есть стих: «La Dame-souris trotte dans le bleu crepuscule du soir»[7] (Дама-мышь семенит в голубизне вечерних сумерек).
И это стихотворение написано Верлэном тоже ночью, во время бессонницы, в тюрьме.
Там, где прекращается непрерывность аполлинического сна и наступает свойственное бессоннице горестное замедление жизни, поэт чувствует близкое и ускользающее присутствие мыши.
Сновидению противуполагается здесь бессонница. И во время бессонницы, как маленькая трещинка в светлом и стройном Аполлоновом мире появляется мышь.
Присутствие мыши еле уловимо и с первого взгляда кажется случайным и неважным. Во время бессонницы, когда напряженное ухо более чутко прислушивается к малейшим шумам ночи, так естественно слышать тонкий писк, шорох и беготню мышей.
Но вот их таинственность неожиданно подчеркивается тем непобедимым, священным ужасом, который во многих вызывается одним присутствием мыши. Страх мышей представляет одну из удивительнейших загадок человеческой души.
Этот ужас реально связывает нашу душу с какими-то древними и темными счетами, память о которых сохранилась лишь в виде почти стертого, пойти потерявшего смысл символа.
Трудно определить и выяснить характер этого аполлинийского ужаса мыши: он не основан ни на чем реальном, ни на чем разумном. В нем нет ни сознания опасности, ни отвращения к безобразию формы. Мышь не безобразна, не во внешности ее лежит источник ужаса. Те, кто подвержены этому аполлинийскому страху, не успевают различить ее наружности. Они скорее склонны определять это ощущение ужаса мелькающим движением ее, быстрым ускользанием.
Для тех, кто подвержен этому страху во всем его объеме, достаточно, чтобы во время сна мышь лишь неслышно проскользнула по комнате, чтобы вдруг проснуться от ее присутствия.
Тут мышь является как бы неуловимой трещиной, нарушающей течение сна.
Вспомним же, что Ницше определяет аполлинийскую стихию как стихию СНОВИДЕНИЯ, противуполагая ее дионисийской стихии ОПЬЯНЕНИЯ.
«В аполлинийских образах, говорит он, не должна отсутствовать та нежная черта, за которую не следует переступать сонной грезе, чтобы не действовать на нас болезненно, чтобы иллюзия не показалась нам грубой действительностью.[8] Это сон – пусть же он длится! – мыслит спящий».[9]
Мир Аполлона – это прекрасный сон жизни; жизнь прекрасна, лишь поскольку мы воспринимаем ее как свое сновидение; и в то же время мы не имеем права забыть о том, что это только сновидение, под страхом, чтобы сновидение не превратилось в грубую реальность. Таким образом, душа, посвященная в таинства аполлинийской грезы, стоит на острие между двух бездн: с одной стороны, грозит опасность поверить, что это не сон, с другой – опасность проснуться от сна. Пробудиться от жизни – это смерть, поверить в реальность жизни – это потерять свою божественность.
Крылатая и преданная всем ветрам Адриатики фигура Фортуны, стоящая флюгером на острие шпиля Венецианской Доганы,[10] может служить конкретным образом положения человека, преданного аполлиническому сновидению.
Острие, которое постоянно ускользает из-под ног и в то же время составляет единственную опору нашу в реальном мире, единственную связь, которой мы держимся для того, чтобы не утратить реального ощущения действительной жизни и с ним вместе единственной возможности проверки наших грез, – это мгновение.
Отдаваться всецело текущему мгновению и в то же время не терять душевного равновесия, когда одно мгновение сменяется новым, стирающим предыдущее, любить все мгновения своей жизни одинаково сильно, текущее предпочитая всем прошедшим и будущим, – вот чего требует от нас аполлинийская мудрость.
Она как бы говорит нам:
«Пусть твое Я стремится по воле мгновения.
Мысли – во мгновении, ибо мысль, которая длится, становится противоречием.
Будь справедлив – во мгновении, ибо справедливость, которая длится, становится насилием.
Будь счастлив – во мгновении, ибо счастье, которое длится, становится несчастием.
Не старайся продлить мгновения – умирание истомит тебя.
Люби все мгновения и не ищи связи между явлениями.
Мгновение – это колыбель и могила.
Пусть каждое рождение и каждая смерть будут тебе нежданны и необычайны.
Не говори: вот я жив, а завтра умру. Не дели сущего между жизнью и смертью.
Скажи: ныне живу и умираю».[11]
Можно сказать, что аполлинический сон покоится на дне мгновения, и каждая смена мгновений нарушает его. Отсюда встает с несомненностью мифологически столь мало выясненная связь Аполлона с идеей времени.
Между тем во многих эпитетах Аполлона мы видим явное указание на то, что эта связь существовала в представлении древнего эллина.
Аполлон не только Мусагет – вождь Муз, он и Мойрагет – вождь Мойр, ему подчинены Парки – эти скорбные музы времени.
Он ОРИТЕС (гр.) – бог часов, он НЕОМЕНИОС (гр.) – возобновитель месяцев, наконец, до нас дошел редкий эпитет, единственный раз во всей известной нам античной эпиграфии употребленный, найденный на острове Тэносе:
«Horomedon», – который мы вправе перевести «Вождь времени».[12]
Среди обычной свиты Аполлона, среди девяти муз, мы как бы не находим никакого указания на связь Аполлона с временем, пока не вспомним, что Музы – дочери Мнемосины – памяти.
Память – Мнемосина является как бы старшей из Муз, память – родоначальница всех искусств.
Поль Клодель в своей оде «Музы» так определяет ее:
В молчании молчания
Мнемосина вздыхает.
Старшая, та, которая не говорит никогда…
Она слушает, она созерцает.
Она чувствует. Она ВНУТРЕННЕЕ ЗРЕНИЕ ДУХА.
Чистая, единая, ненарушимая, она вспоминает самое себя.
Она отвес духа! Она соотношение, выраженное прекрасным числом,
Она неотвратимо поставлена
У самого ПУЛЬСА БЫТИЯ.
Она – ВНУТРЕННЕЕ ВРЕМЯ;
Она связь того, что не время, с временем, воплощенным в слове.
Она не будет говорить.
Ее дело не говорить: она совпадает.
Она владеет, она помнит, и все сестры внимательны к движению ее век.[13]
В этих образах и уподоблениях Клоделя есть нечто, что подводит нас к самой сущности понятия времени. Он говорит о «внутреннем времени», о том, что память есть «внутреннее зрение духа».