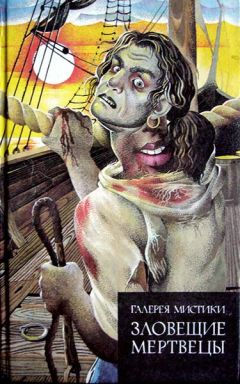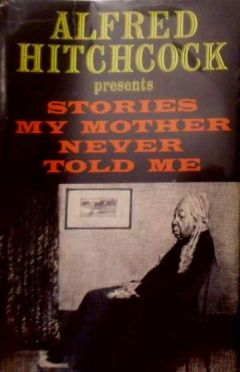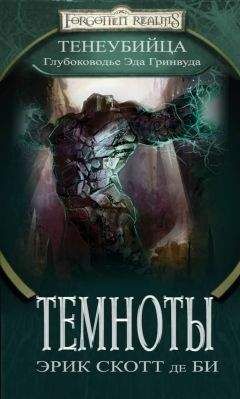Максимилиан Волошин - Аполлон и мышь
Его любовь, разрушая, на место поклонения живому существу ставила культ его тени. Но эта тень была создана на самой их сущности, и эти следы ее, и эта таинственная радость удовлетворяли его изобретательную душу.
Для каждого из этих платьев была отдельная зала в замке. Мудрый Владелец запирался на долгие вечера то в одной, то в другой из этих нити зал, в которых курились различные ароматы. Долгие часы, проводя рукой по своей длинной, тронутой кое-где серебряными нитями бороде, одинокий влюбленный смотрел на одежду, висевшую перед ним во всей печали ее шелков, во всей гордости ее парчей, или во всей недосказанности ее муаров.
Но их было шесть, этих теней, которые в сумерках бродили около старых развалин, и только шестая, последняя, была одета.
Это было потому, что она была маленькой пастушкой и пасла своих овец на равнине, поросшей розовым вереском и желтыми слезками, стоя или сидя на опушке леса посреди стада в своем платье из грубой шерсти, под которым иногда прятались от ветра слабые ягнята.
Красивые глаза придают простоту самому прекрасному лицу. А ее лицо было так красиво, что овдовевший Владелец замка, увидевши ее мимоходом, полюбил и захотел жениться на ней. Борода его была в то время уже совсем белой, и взгляд его так печален, что пастушке он внушил больше жалости, чем соблазнила ее честь быть знатной дамой и жить в замке, где она считала часы по теням башен, падавшим на лес.
Ни один слух о зловещей славе благородного Владельца не проник в уединение маленькой пастушки. Она была так ничтожна и бедна, что с ней гнушались разговаривать, и, гордая, она не расспрашивала тех, что проходили мимо ее хижины. Впрочем, она и не сожалела об этом, потому что она любила. Хотя ей хотелось иметь новое платье для свадьбы, но она утешала себя тем, что ее друг никогда бы ее не отметил, если бы ему не понравились ее шерстяной плащ и чепчик из грубого полотна.
На рассвете звуки труб разбудили лес, и четыре хоругви, развернувшись в одно время на вершинах четырех башен замка, заволновались и утреннем ветре. Гул празднества наполнял просторное жилище. Опустился подъемный мост, и выступила торжественная процессия: вооруженные воины, которые на своих скрещенных копьях поддерживали корзины цветами, пажи и лучники. Рядом с пустым паланкином, качавшимся на плечах негров, ехал сам владелец замка в кафтане белого шелка, расшитом овальными жемчугами, на которые спадала его серебряная борода.
Маленькая хижина, около которой остановилась вся эта торжественная процессия, спала, и ставни были заперты. Слышно было, как овцы тихо блеяли, да птицы взлетали с ив и с крыши, испуганные этим приближением, но возвращались назад, успокоенные молчанием кавалькады, ставшей тихо вокруг; легкий ветер завивал перья султанов, подымал кружева воротников и шевелил челки коней; по это молчание не помешало тому, что по рядам побежал легкий шепот о том, что живущая здесь была пастушкой и что зовут ее Гелиадой.
Владелец слез с коня, преклонил колено перед дверью и стукнул три раза; дверь раскрылась, и на пороге появилась невеста.
Она была совсем нагая и улыбающаяся. Ее длинные волосы сливались с цветом золотых цветущих слезок. Концы ее молодых грудей розовели, как цветы вереска. Ее милое тело было просто, и невинность ее так велика, что улыбка ее, казалось, ничего не знала о ее красоте. И люди, что смотрели на нее, видя ее столь прекрасной лицом, не замечали ее наготы. Те же, кто заметил, не удивились, и разве два лакея перешепнулись между собой. Так ей, которая была бедной, мудрая хитрость внушила быть нагой, и она приближалась нагая, серьезная, заранее торжествуя над кознями своей Судьбы.
Весь город волновался в ожидании церемонии, назначенной на этот день. Любопытство увеличивалось тем, что если все знали жестокого Господина не взыскательности его дорожных пошлин и требовательности земельных налогов, то никто не знал, кто та, что вместе с ним должна вступить под портал церкви. Так весь город теснился вокруг процессии, окружавшей таинственные носилки, с которых сошла эта странная невеста. Сперва они были ошеломлены и приняли это за новую кощунственную фантазию дерзкого Сюзерена; но так как большинство было душою наивно и просто и как они много раз видели на церковных стеклах и на порталах собора фигуры, похожие на эту: Еву, Агнессу и дев-великомучениц, так же, как она, нежных телом, так же прекрасных кроткими глазами и длинными волосами, то недоумение их сменилось удивленным благоговением. Они подумали, что небесная благодать ниспослала это чудесное дитя, чтобы смягчить неукротимую гордость и жестокость грешника.
Она и он рядом вступили в церковь. Корабль, благоухавший дымами, был освещен свечами и солнцем. Полдень пылал в распустившихся розах и в бело-огненных стеклах, и причетники, бритые и угрюмые, глядя на эту нагую девушку, непонятную для их желаний, думали о том, что владелец Карноэта при помощи какого-то колдовства женится на Нимфе или Сирене, подобной тем, о которых говорят языческие книги.
Не приказал ли архиепископ служителям наполнить кадильницы, чтобы дым, встав между этой Посетительницей и оком Божьим и глазами человеческими, отделил густой пеленой необычную пару. И сквозь благоуханный туман едва можно было различить их, склоненных пред алтарем, золотые волосы, серебряную бороду и благословляющий жест епископского посоха, освящавшего обручение.
Пастушка Гелиада, которая венчалась нагой, долго жила вместе с Синей Бородой, который любил ее и не захотел убить, как он убил пять других.
И тихое присутствие Гелиады оживляло старый замок.
И ее видели одетой, то в белое платье Аллегорических Дам Мудрости и Добродетели, перед которыми склоняются Единороги с хрустальными копытами, то в одежды голубые, как летом тень деревьев на траве, то в хитон лиловый, как ракушки, что лежат в сером песке морских побережий, то в ткань, расшитую коралловыми ветвями, то в кисею цвета зари и сумерек, но тяжелому великолепию этих платьев, подаренных ей супругом, она предпочитала свой длинный пастушеский плащ из грубой шерсти и чепчик из полотна.
Когда же она умерла, пережив своего мужа, старый замок разрушился и погрузился в забвение. Так среди нагих теней, блуждающих среди развалин, она одна была одета и явилась мне в облике той крестьянки, что показала мне развалины Карноэта».[22]
Синяя Борода нарушает заповедь Аполлона:
«Не старайся продлить мгновение – умирание истомит тебя!». Он пьянящему любовному напитку, выпитому залпом, предпочитает созерцание хрустальной мертвой чаши. Он намеренно длит наслаждение и томится сладкой агонией чувственности.
Он не желает допивать до дна бокала полного вина и дочитывать роман до последней страницы.
Не ожидая конца, он сам надменно обрывает мгновение. Он убивает мудрой и жестокой рукой напрасных красавиц для того, чтобы в складках и в аромате тканей, соприкасавшихся с их телом, навеки закрепить волнующие чары их чувственной прелести.
Он не творит живой статуи немого бога непрестанным воплощением своих желаний. Он становится академиком чувственности и хранителем изысканного музея редкостей, в который он претворил свою жизнь, свою страсть, свои ненасытные искания.
Но вот в его жизнь, грустную и молчаливую, как символическая хрустальная чаша, входит нищая пастушка Гелиада. Чаша, к которой могли прикасаться лишь уста Одиночества и Молчания, наполняется студеной водой лесного ключа, высеченного копытом крылатого коня.
В замкнутый дом души, в котором бродили капризные и обаятельные тени кокетливых мучениц, вместе с утренним ветром, лучом солнца и пением птиц входит пастушка совсем нагая и улыбающаяся. Ей неведомы утонченности любовных томлений, но ее милое тело так просто, и невинность ее так велика, что люди, видя ее столь прекрасной лицом, не замечают ее наготы. Шерстяной крестьянский плащ и чепчик из грубого полотна оказываются прекраснее изысканных платьев.
Пробежала мышка,
Хвостиком вильнула:
Яичко упало и разбилось.
Дед плачет, Баба плачет,
Курочка кудахчет:
«Не плачь, дед, не плачь, баба!
Я снесу вам яичко другое –
Не золотое – простое»,
Концы круга соединяются. Из произведений утонченного французского символиста выясняется смысл старой русской присказки.
Когда человек спит, он может сознавать это и не может по собственному желанию нарушить действительность сна. Но достаточно пробежавшей мышке вильнуть хвостиком, и разбивается золотой сон. И вот, когда раскрываются его глаза к дневному бытию и он видит перед собой и нагую пастушку и лесной ключ, то ему становится понятно нетаинственное кудахтанье курочки:
Я снесу вам яичко другое –
Не золотое – простое.
Священное царство Аполлона заключено вовсе не в золотом, а в простом яичке.
Пусть сны оканчиваются, пусть золотые яички ломаются, несокрушимая власть Аполлона таится в той творческой силе, что всегда дает новый росток; силе, которая клокочет и бьется в стройном согласии девяти муз.