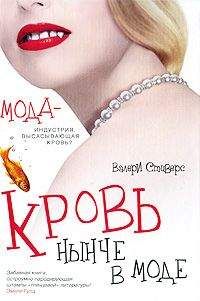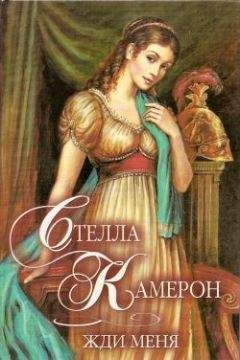Владимир Гусев - Дни
Но где телефон?
Видимо, по своей дурной привычке, он записал на бумажке; а может быть, она просто врет. Не врет, а перепутала и так далее.
Он снова сел у телефона, вспоминая приятелей, которые могут помочь; но, во-первых, оказалось, что таких мало, а во-вторых — срабатывал закон полосы невезения. Тот переехал, и нет телефона; тот на курорте; тот черт-те где — не берут трубку. Машина «постоянная» врачиха сама в больнице.
Ныне кто всё время сидит в Москве? Все мотаются.
«А Володька? У него уйма знакомых. Но вряд ли он… ждет в гостинице».
Однако он набрал номер номера.
Володька был там.
По традиции таких случаев перейдя от бодрых мужских приветствий к соболезнующим нотам, он сообщил, что «есть такой малый», и он сейчас позвонит, а после перезвонит. «Ты дома?»
— Я дома.
Десять минут он сидел у телефона, сложив руки на коленях и глядя на трубку. Звонок.
— Его, черт возьми, нет дома. Да это и ясно: середина дня. А служба не отвечает. Со службами у нас туго.
Пауза.
— Н-ну спасибо.
— Я еще позвоню, и как найду, так тут же и позвоню.
— Спасибо.
В их интонациях тоже была неловкость; мужской ритм их отношений был резко нарушен.
— Ну, всего тебе. Ты не унывай. Я позвоню, если что.
Алексей почти физически ощутил его несознательное, не злое, но все же несомненное облегчение в этом — «если что»; мол, сейчас положу трубку, а там… а там — в Москву прибывают из Архангельска не для этих дел.
Звонок: затрещал под носом.
Неужто Володька уж нашел?
Он взял слишком крепко.
— Д-да?
— Алексей Иваныч?
— Нина?
— Спасибо, что узнали. Алексей Иваныч, я понимаю, что вы человек занятый, что у вас какие-то проблемы, и я не вмешиваюсь; но я бы хотела вас видеть. Разве так трудно?
— Нина, мне и правда не до вас. Я не вру.
— Нет, но разве можно так разговаривать? Ну, что я вам сделала? Я в Москве. Мы не виделись… столько лет. Разве нельзя вас увидеть?
«У вас у всех в Москве праздники, а у нас — «просто» жизнь».
— Нина, до свиданья, и положите трубку; а то я должен буду положить первым.
— Нет, я не понимаю…
Он положил трубку. Телефон затрещал.
Он не брал.
«Сам виноват. Поменьше б играл в игры», — привычно-автоматически прошло в голове.
«Может, у нее-то — знакомый хирург?»
«Нет. Спроси — она ухватится за это, как за повод для душевного общения; но в конце окажется, только потеря времени», — вновь с холодной ясностью несчастья подумал он.
«Я вам еще пригожусь?»
Увы.
Нечего вмешивать мою дочь в те игры.
Телефон перестал, а потом затрещал заново.
— Д-да!! — рванул он трубку, глухо готовясь послать эту Нину…
— Алексей Иванович? Алеша? — услышал он одновременно знакомый и незнакомый женский голос.
— Да. Кто это? — спросил он четко.
— Да это Рита, ваша соседка.
— Рита… а, Рита. «Бывшая соседка», — мысленно уточнил он; было время — они все переезжали; теперь уселись; Рита?
— Здравствуйте, Рита.
— Алеша, я слышала, у вас Маша заболела?
— Ну да. А вы знаете?
— Да мне во дворе сказали. Так вот, я хотела сказать, у меня есть знакомый хирург в институте Вишневского. Он резал гланды Коле. Ну, не в этом дело. Так вот, я ему уже позвонила; он позвонит туда, на Полянку.
— Да. Да? Позвонит… А… что же он скажет…
— Да уж они, эти врачи, они знают между собой, что сказать. Конечно, может, это и лишнее — эти звонки; а все же. Все-таки какое-то… утешение. Как вы себя чувствуете? Вы очень расстроены, да?
— Ну что́ тут, Рита, — отвечал Алексей, с некоторым даже и трудом представляя Риту — соседку их по тому подъезду, о которой он, конечно, давно забыл. И никогда не было у них тесных отношений между семействами. Соседи по площадке. Там — добропорядочная и тихая семья — тихий муж, любящая жена Рита, сын Коля, мать Риты — тихая теща мужа; здесь, у них — вечные их надрывы, тревога. О чем дружить?
— Ну что тут, — повторил он. — Конечно, веселого мало.
— Ну, я понимаю. Если чего надо, вы скажите. Ну, до свиданья, Алеша.
«Вы скажите» прозвучало просто; она не добавила — «не стесняйтесь»; так было ясно, что и верно — можно и позвонить.
«Такова жизнь», — успел он подумать.
— Спасибо, Рита. Спасибо, — сказал он хмуро.
— Жене передайте, пусть позвонит, если что. До свиданья.
— До свиданья. Спасибо.
Звонок.
Нерешительное:
— Алексей?
— А, Саша.
«Что с ним делать?»
— Ты, вы знаете, Алексей, тут поезд через час сорок. Не успею заехать. Спешу… э-гм. Семья, понимаете. И жена спешит к родным. Так что не встретимся. Как дела?
— Заезжай потом, Саша. Там… поговорим. Дела… ничего.
Пудышев помедлил, чуя что-то не то.
Подобно всем людям этого склада в такие мгновения, он как бы дал Алексею некие секунды на размышление; но видя, что тот молчит, крепко сказал:
— Ну, до свиданья, Алексей. До встречи. Еще увидимся.
— Увидимся, Саша. Всего тебе доброго.
Алексей подумал, что тот даже не спросил об Ирине.
Снова минут десять он уныло сидел у телефона.
«Позвонить еще футурологу, что ли. У него вечно болеют дети».
Он позвонил — того не было дома.
«Однако надо звонить в больницу».
Это была самая мучительная процедура; он добровольно взял ее на себя.
Звонишь в справочную — там занято, — звонишь, звонишь — и наконец длинный гудок. Сердце… И берут трубку. И спрашиваешь. И ждешь. Ждешь — минуту, другую. И тебе отвечают. «Надо звонить, пока ее нет».
Он позвонил.
Взяли сразу.
— Осенина Маша?
Пауза.
— Температура 38,5, состояние среднетяжелое.
— Спасибо.
Он опустил трубку.
Это мгновенное серое — колющее и затем давящее на душе.
Утром было 37,2 и «состояние» — «удовлетворительное».
Ухудшение.
Это то, о чем они предупреждали.
Мол, надо ждать.
Если ухудшение, так не сразу.
И — вот оно.
Слово «перитонит» уж возникало у него в мозгу при первых позывах к пробуждению… ранним утром…
Вот — вот оно.
И вновь — пустая квартира.
И вновь — он один — «мужчина».
Он вновь ходил по комнатам, соображая, что делать.
Так, жены нет; она явится — что сказать?
Он ходил.
Как бы украдкой он подошел к шкафу, где таилась его черно-компактная и блестящая, модная электробритва в своей удобной черной коробке; уж много дней он смотрел на разбитое — треснувшее — зеркало, вправленное в крышку.
Ныне, стыдясь, непрерывно ощущая чей-то взгляд на себе, он подошел к шкафу, достал коробку, а из нее бритву; еще поколебался минуту — и, кляня свое «малодушие» и «немужское» начало в душе, стал грубо выковыривать разбитые части стекла неверными пальцами; куски не поддавались — стекло было вправлено «на всю жизнь», как это у нас умеют, а трещины были лишь трещины, куски так и не разошлись друг от друга — трудно было найти зазор; он пошел в кухню — поддел ножом; зазор — вот он, но все равно не вынимается; наконец он вынул один, за ним и второй кусок; далее пошло проще — вскоре зеркало — куски зеркала — были вынуты, он аккуратно обобрал все края; вместо зеркала теперь было ровное и тусклое марево некоего металла.
«И то-то. Металл не бьется».
Он собрал все куски в ладони и вынес остатки зеркала из квартиры. Из дома.
Он вернулся в заметном облегчении — и мысленно огляделся как бы: не видел?
Никто не видел?
Никто…
Никто.
Он ходил по комнате, ожидая жену; он не мог же ехать один.
Надо было ее сопровождать.
Он вошел в комнату Маши; как ему показалось, удивительная, ненормальная пустота и тишина царили здесь; сидел на радиоле, согнув лапы так, эдак, желтый медведь с большой, хмурой головой, умным взором; стояла корзина, наполненная зелеными, красными, синими и пестрыми деревянными, металлическими игрушками; были разбросаны мягкие и твердые псы, коты, медведи, куры-петухи, и слоны, и кубики; на стенах тихо висела разноцветная Машина живопись; на ковре были приклеены некие тоже куры из картона — ей запретили, она «все равно» приклеила; лежали книги, листы бумаги; кровать была застелена нежным младенческим покрывалом, подушка — в лентах.
Алексей вдруг четко, галлюцинативно четко представил, что это всё — есть, а Маши нет — нет и не будет; все оцепенело в нем, он секунду не двигался; затем, ощущая физическую боль во всем теле, он повернулся и хмуро и тихо вышел из комнаты, как из опасного места.
«Маша… Машенька. Вот вернись… и я…»
И он не знал — не мог придумать он, что же бы предложить судьбе.