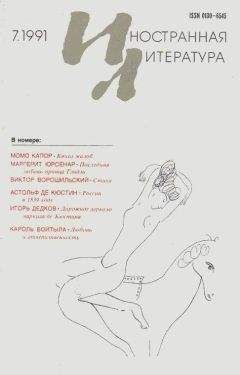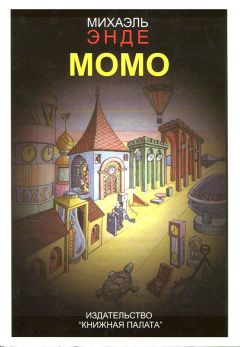Фигль-Мигль - В Бога веруем
И вот наступила пушистая зима. Дни стали короткие, как спички, а ночи — ледяные, как купленный на улице апельсин. (А знаете, жалко, что апельсины продают теперь круглый год, утрачивается чувство смены сезонов. Когда Евгений — и Негодяев — и даже Мадам — и, может быть, вы, дорогой друг, — были маленькими, апельсины существовали в прочном ассоциативном ряду снег-елка-каникулы, и еще — черное утреннее небо в первый учебный день третьей четверти. О ненавистная третья четверть, ледяная, нескончаемая! Как жестоко и быстро она вытравливала из жизни острый и сладкий оранжевый запах каникул.)
Покатились сани зимы, неуклюжий дедовский возок зимних месяцев. Первый снег — пушистый, праздничный — быстро затерялся в растущих сугробах, потерял цвет: вот так собака белой масти, хамелеон северного города, постепенно приобретает тон грязных улиц, серого снега. Его ненавидишь, этот уже мертвый снег, но он всюду, он лезет белой гадостью — в глаза, колючим дробленым льдом — в уши, от него першит в горле. В этом снегу Евгений обрел свое будущее. Он извлек будущее из сугроба, как оброненную кем-то рукопись, и рукопись осталась в его владении.
об Аристиде Ивановиче
Будущее имело вид нелепого старика — маленького, скрюченного, сморщенного, с всклокоченными космами седых волос, в старом пальто — опрятном, но косо застегнутом — и со связкой книг, в которую старик вцепился мертвой хваткой и не выпустил даже тогда, когда Евгений поднимал его и отряхивал.
Евгений поставил свое приобретение на ноги, и тщательно отряхнул, и вынул куски снега из щели между воротником пальто и шарфом, и — посмотрев и подумав — застегнул пальто как положено. Старик молча пыхтел, тяжелая связка книг в его руке прыгала и раскачивалась. Брови — два седых клочка, вздыбленных и лихо загнутых, как крылья на картинке, как усы старого портрета, — придавали лицу выражение, не поймешь какое: то ли удивленное, то ли гневное. А где шапка? — спросил Евгений. Шапка благополучно нашлась в том же сугробе, Евгений и ее отряхнул. И водрузил — такой порыжелый пирожок из неизвестного материала. Шапки подобного фасона — но не качества — когда-то обильно украшали высокие трибуны, и почему-то всегда над ними кружил снег: наверное, так полагалось. А как они выглядят сейчас, трибуны? Прилично выглядят, в таком общеконсервативном стиле, не отличишь от всей Европы, если на лица не смотреть. А впрочем, какие лица… мы же видим их только на экране телевизора — как сквозь мутное стекло, гадательно.
Старикашка, как выяснилось, не заметил машины (“я ведь шел по тротуару, они не должны здесь ездить”), в последний момент метнулся в сторону (его слегка подтолкнули), поскользнулся (“странно, ведь говорят, что убирают”) — ну и, тыры-пыры, оказался в сугробе. Ничего страшного. Мог бы оказаться в больничке. (А вам, кстати, в мыслях о будущем никогда не хотелось попасть сразу в морг, минуя больницу?)
Да, не хочешь развивать сообразительность — развивай прыгучесть. Старикашка по имени Аристид Иванович всю жизнь — лет сорок пять — доблестно служил в Публичной библиотеке, и все эти годы ученый мир родного города ходил к нему за консультациями, а теперь проконсультировали его самого, это справедливо. Некоторые думают, что обмен советами (и консультациями, то есть советами специалистов) составляет основу человеческого общежития. Вот так соберутся специалисты за большим круглым столом, посовещаются-посовещаются — перетрут между собой, — а потом зовут профанов и дают им смелые уроки. А чем закончилось совещание Мадам и Негодяева, и почему вы так смешно ее называете? Совещание закончилось, как ему и следовало, ничем: положили ждать и по мере надобности совещаться. А Мадам — это титул жены брата французского короля, и еще так называют хозяйку борделя, сводню, если по-простому (но можно сказать и “менеджер”). Что, заинтересовала вас дамочка? Ну… даже непонятно: вроде бы и стерва, а с другой стороны, с таким человеком, как ваш герой, по-хорошему нельзя. Вот те раз! Что он вам сделал? Ничего, это-то и противно. А добрый поступок? Ну уж и поступок — кто угодно бы такой совершил. Он просто шел мимо.
Евгений просто шел мимо — подобно тому, как Аристид Иванович шел мимо жизни, — но оба они, встретившись друг с другом, разминулись со своей судьбой. Аристид Иванович всегда знал, что его судьба предрешена, но он ошибался. Он вообще знал все (все, что можно узнать, просидев сорок пять лет в невинных дебрях библиографии), поэтому ничего, кроме ошибок, не совершал.
Он занимался тамплиерами, прочел целую библиотеку на семи языках, что-то отрывочно написал — и бросил. Он заинтересовался догреческим субстратом, годы провел в изучении сомнительных корней — и охладел. Он мог и умел все, что мог и умел профессорский состав филфака в своей совокупности, и не сделал ничего. Он постиг учение гностиков о мистическом значении букв. Он был бесплоден в лучших традициях совершенной учености. Труды современных ученых он не читал; его безжалостный, безнадежный взгляд замечал только ошибки. Стремление к абсолюту уничтожило его существо так же, как уничтожило способность созидать. Приложилась и этнография: ужасна судьба перфекциониста в России. Это был тихий, очень вежливый человек, в общем и целом невыносимый. Под конец он пришел к манихеям и на этом этапе попал в сугроб и в наше жестокое повествование.
Евгений проводил его до дому, зашел выпить чаю, а потом зашел еще и еще. Аристид Иванович жил в маленькой комнате огромной коммунальной квартиры. Никогда прежде Евгений не видел такого количества книг и в таком беспорядке. Книги высовывались из всех щелей, как тараканы, свисали с потолка, как пауки; к чему бы вы ни прикоснулись, оттуда падали, ползли, лезли книги, на что бы вы ни сели, оно разваливалось под вами грудой книг. Вот видите, стоит стул? Вы думаете, о бедный наивный друг, что это такой стул —пусть старенький, страшненький и не очень чистый, на который можно в случае жестокой необходимости присесть и потом, здорово живешь, встать? Ау-вау, да не садитесь же, что за зловещая тяга к эксперименту на личной шкуре! Давайте руку. Все в этом хламе давно перестало быть собой — или, иначе, очистилось от себя под толстым слоем времени — мутировало — пресуществилось, — словом, это уже не стул, а его идея… а после вашего эксперимента, увы, даже не идея, а так, пролегомены к какой-то будущей метафизике.
Ну, пофантазируем? Аристид Иванович — с виду обычный старичок, пусть и с придурью, а на деле чернокнижник и злодей, каких мало. Посмотрит — как плюнет, дотронется палочкой — и сам ты теперь палка. Подул — тоже что-то такое сделалось. (Палочка Коха? Как вы все буквально понимаете.) Покопается в своих ужасных книжках — и кого-то на следующий день закопают в землю в густом лесу, на другом краю географии.
о саспенсе
Жизни не хватает саспенса. Когда у вас на даче сперли мешок корнеплодов — или свинтили колеса машины — нежного возраста херувим метнул из окошка какую-нибудь гадость — треснул и грозится рухнуть дом — где-нибудь навернулся очередной самолет — врач пробормотал или с улыбочкой отчеканил диагноз — менты, наконец, неудобосказуемо обидели — это все не саспенс, а сами знаете что. В жизни нет места высокохудожественному ужасу, так в ней все смазано, размазано и некрасиво. Жизнь взяла себе картошки и окошки, неудобосказуемый страх, а ужас, со скрученными за спиной руками, препровожден в кинематограф: там и берет зрителя настоящая жуть, когда все такое, и странно сквозит в затемненных высоких залах какого-нибудь палаццо, и улыбаются нежно прекрасные психопатки, и бледное печальное зло бродит на высоких каблуках в пустом узком проулке. А уж как весело представить, что разумный, мирный, из ряда вон выходящий библиограф может в любой момент, по настроению, обрушить громы и молнии, растерзать, растоптать, скормить крысам. И ничего этого, в силу нам не известных причин, не делает. Но может.
А кроме книг, Аристид Иванович владел также рукописями: арабскими, коптскими и такими, которые были написаны странными знаками, не принадлежащими ни одному из известных языков. Острый, едкий запах пыли, старой бумаги, переплетов и чернил стоял в комнате, как большой засохший букет, торчал во все стороны печальными жесткими иммортелями — тяжелый и безжизненный запах литературы.
В этой-то комнате! долгими зимними вечерами! Да, вечера были долгими, но ничего особенного не происходило. Хозяин и гость курили, попивали мадеру и разговаривали, то есть Евгений листал для вида какую-нибудь книжонку и о чем-нибудь спрашивал, а Аристид Иванович, изо всех сил сдерживаясь, сердито и кратко отвечал.
Вот какая подлянка ждала бедного героя: оказалось, что не все ученые люди страдают зудом просветительства. У Аристида Ивановича точно нигде не зудело. Ему было плевать на гипотетическую тягу простецов к знаниям — и на ответную мистическую тягу знаний к простецам — на простецов как таковых и на знания в их полном объеме. Простецы, по его мнению, существовали, чтобы своевременно очищать дороги от сугробов — сугробы существовали, чтобы простецам было чем заняться, — существование дорог обеспечивало бесперебойность производимых на них работ — знание болталось так, бесполезной вещью в себе, — а все вместе было одной большой разводкой (он не знал такого слова). Все это существовало, и никаких улучшений не предвиделось, потому что Аристид Иванович не желал улучшать существующее. Он не верил, что у существующего есть возможность или способность улучшаться. Он отверг даже самосовершенствование. Он был последователен. Он отрицал творческую силу навоза.