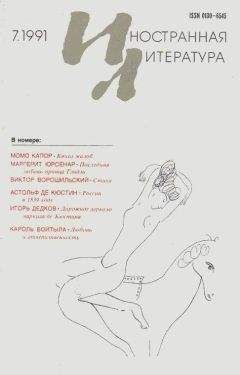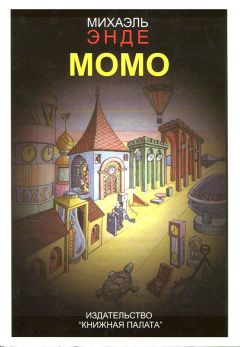Фигль-Мигль - В Бога веруем
А как лучше для любимого города? Э, вы о любимом городе не беспокойтесь: подлецу все к лицу. Не такой это город, чтобы пострадать от каких-то паршивых растяжек или ими же украситься. Нам больше нравится сейчас — аляповато, вульгарно, витально, брутально, перорально, с наивной наглостью, наглой наивностью, каннибализм как высшая степень простодушия — но и пятнадцать лет назад было неплохо: пустынно, просторно (летом в воскресный день), и покой как где-нибудь на раскопе, в извлеченном из-под земли, из-под пепла городе, и аборигены, например, Коломны, как ящерицы, приникают к раскаленным камням домов и набережных, и так тихо над каналами, так невообразимо далеко небо — так далеко, что не разглядишь; идешь, идешь, пока не увидишь путеводную звезду, райски приманчивую скромную вывеску, одну на сто верст другом. Бутик? Турагентство?
Нет, говорит Негодяев, просто кабак. И друзья, неожиданно оказавшись на пороге излюбленного бара, толкают дверь и поспешно входят.
А что это за вопли такие в баре? Дайте нам протиснуться — дайте посмотреть — ну-ка, посмотрим —
Ага, все ясно. Знатоку крепленых вин разбили рожу. Вот мы видим, как течет из носа кровь на дрожащие губы. Его усаживают на стул, держат за руки, но он молчит и отворачивается, и у тех, кто стоит вокруг, вид взволнованный и самодовольный. Что здесь происходит? — спрашивает Негодяев и не получает ответа.
Ему не ответили; ну и прекрасно. Что происходит, что происходит — в жизни, кроме разговоров о книгах, присутствует также и сама жизнь.
Кто-то плачет в углу; этого кого-то, по его мнению, сильно обидели. Многоуважаемый, говорим мы, что за ребячество. Избили вас не сильно, и даже ногами не били — во всяком случае, преднамеренно. Мы не видели, что здесь разыгралась за сцена — без сомнения, бессмысленная и безобразная, но отнеситесь же к ней адекватно, рожа не стекло — заживет. Вот и ваши приятели — мастера сожалеть и злословить — подтверждают, и у мизантропов наготове примеры, у фрондеров — обличения, у старичков — поучения, у лоботрясов — модный жестокий романс “Мне бы в небо”, а странствующий узник совести хоть немедленно напишет петицию в высокий Страсбургский суд.
Но он только отворачивается. Бедный, бедный.
Возвращаясь с похорон, Евгений расхандрился.
Упс! Погодите, а кто умер? Ах, мы не сказали? Ну вот тот самый, любитель хереса и Шекспира. Как же так, ведь его избили не сильно? Правильно, он и умер не от побоев. А от чего? Фу, от ерунды. Пришел домой и удавился. Удавился? но почему он это сделал? Наверное, из чувства самосохранения.
Они никогда не сбываются — эти ужасные большие надежды. Посетитель изо всех сил стучит кулаком по прилавку, требуя, чтобы его обслужили, — и наконец ему приносят, только не выпивку, а сразу счет. Клиент озадачен, озабочен, потрясен наглостью. Его рука разжимается — и в ней ничего нет.
Все-таки это не повод. Не причина, вы хотели сказать; поводы всегда случайны, и важное значение им придают только те, кто не любит истинных причин, этих глубоководных закономерностей жизни. Значит, у жизни все же есть закономерности? Разумеется, хереса бутылку и хером по затылку — разве это не закономерность? Фу! Ах, оставьте это: народную мудрость легко презирать, пока с нею не столкнулся.
Что бы ни случилось в этом прелестном маленьком баре — на столиках там нарисованы географические карты, на стенах висят литографии морей и парусников, из окон видны фрагменты ветреного тревожного заката, ведь это закат в городе, пронизанном и окруженном водою, с верфями и огромным портом, — что бы ни случилось, не случилось ничего. Вы избили и вы сжалились, если рядну народной мудрости предпочесть гностическую пышность. Так получше?
об индейцах гуахиро
Все-таки это не повод и не причина, такие огорчения до петли не доводят, иначе кто бы в родном городе посещал бары и любовался закатами. Как знать; и можем ли мы расчислить силу чужих огорчений? Испытывая гнев, стыд или огорчение, индейцы гуахиро иногда вешаются, это этнографический факт. Было ли свойственно бедному удавленнику желание быть индейцем — или, наоборот, чего-то у него не было — чего-то очень нужного, — теперь не спросишь, и так даже лучше: еще А. А. Блок учил не приставать к мертвым с вопросами, это нетактично. Так что давайте простимся (все же печально, когда тебя хоронят поздней осенью, вы не находите? последние листья облетают с окруживших раскопанную могилу деревьев, полетела на крышку гроба желтая жидкая грязь), простимся с повешенным и поговорим о веревке.
В литературе вешаться как-то не принято — это не вполне благопристойно, понимаете, подлая смерть. Можно попробовать застрелиться — утопиться — заразиться тифом — броситься под поезд — броситься на какие-нибудь баррикады — уехать в Персию, наконец. (Веселенькая у нас литература, что скажете?) Прекрасных способов самоубийства много (не говоря уже о дуэли и всегда действующей армии), и читатель вправе поморщиться, когда ему предлагают в виде веревки насилие над эстетикой. (А что? это, говорят, очень приятная смерть.) Скажете тоже, пошел и удавился. Мы ведь знаем, что такой человек, как, например, Ставрогин, мог повеситься исключительно по воле своего злобного автора. Вот и толкуйте о полифоническом романе.
Что такое полифонический роман?
Ох-ох. То же самое, что общечеловеческие ценности, историческая родина или геополитика — бессмысленное популярное словосочетание. Как будто автор вовсе не тиран над своими героями, и их голоса — не его голос, и никому он не помогает, ничью свободу слова не душит — не роман, а английский парламент. Господи Боже, мыслимое ли дело, чтобы гражданин Ставрогин хоть пальцем дотронулся до своей драгоценной особы! А Раскольников? Ля-ля, перед ним сияла заря обновленного будущего! То-то читающая молодежь до сих пор пишет на двери легендарного чердака: “Мы с тобой, Родя”.
Так чья там рука держит обрывок веревки?
об уплате налогов
Рука разжимается — и в ней ничего нет. Евгений расхандрился; ему было грустно и гадко, и он уже ничего не понимал. Он и раньше понимал не особенно глубоко и много, но раньше не было необходимости — кто он такой был, и что менялось от того, понимает он что-то или нет. Так что, значит, теперь он считает, что кем-то стал? Он вынужден так считать, и если в каком-то смысле он прежний кто попало, то в еще каком-то — вовсе нет. У него вон костюм, жилплощадь с видом на вечное, любящая жена, прелестный ребенок и даже шенгенская виза. Он потребитель, клиент, абонент, владелец, господин, гражданин, в конце концов. Что значит “гражданин” — он что, налоги со своего сокровища платит? Э… а и платил бы!
Да, будь это так просто и не столь неприятно. Ведь мирные обыватели — потребители, абоненты и т. д. — от природы всем сердцем склоняются к законопослушанию, но уповают, что и закон, со своей стороны, некоторые приличия наблюдать будет, а не так, что каждый, у кого хоть какая-нибудь бляха есть, норовит дать тебе этой бляхой по морде. И не только уповают, но любят при случае выгадать или хотя бы не прогадать и чуть ли не требуют, чтобы они, например, налоги, а им взамен — респект. С какой радости? Ни в одном учебнике гражданская доблесть и положенный ей респект не увязываются с налогами. Приятно и почетно умереть за родину — вот как учебники трактуют, а про налоги там в лучшем случае сказано, что они не пахнут, и если можно откупиться от родины отсутствием дурного запаха, то уже без доблести и респекта на сдачу.
По причине обиженного самолюбия кое-кто с непризнанной гражданской доблести переключился на практическую филантропию: ты нищему копеечку, а он тебе, не отходя от кассы, вечное вспоминовение и “молись за меня, блаженный”. А если еще своевременно распорядиться по части злых мальчишек, чтобы копеечка пребывала в целости! Вот Евгений проморгал — и ау, блаженный. Ах, как нашему герою будет теперь не хватать английской литературы! (Вздор.) А чего ему не хватает?
При упадке духа врачи прописывают вареную курицу и стакан мадеры. (Шикарная болезнь — меланхолия.) А помимо того, что курица и мадера, можно с чистой совестью, встречая понимание, грустить о ерунде, о постороннем. Откуда, по-вашему, столько грусти, ведь он совсем не знал покойного, как вы думаете, можно ли по-настоящему привязаться к человеку, о котором знаешь только, что в ближайшую пятницу смешной срывающийся голосок расскажет о вещах, ни к чему не имеющих отношения. Как его звали? Никак; просто он жил где-то поблизости. Уже не живет.
Негодяев, этот истинный друг, всегда был тут как тут. Развлекал, тормошил, тащил в клубы и на концерты — учил готовить плов — ребенка учил рисовать пастелью и водил в Эрмитаж — принуждал работать, — сам пытался доллары из кармана доставать, честное слово. А вы как будто посмеиваетесь? Вы смотрите на этот чудесный антикварный диванчик в бледно-бледно розово-серых тонах, на котором сидит жена Евгения — отвернувшись от нас, лицом к сидящему рядом — да неужели они и за руки держатся? Да, держатся, и обратите внимание на колени — вот они соприкоснулись — прижимаются все теснее — вот и ноги сплелись — и руки, разжавшись, вольно странствуют — и пламенный поцелуй —