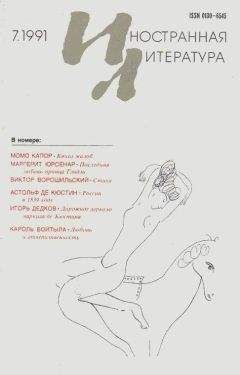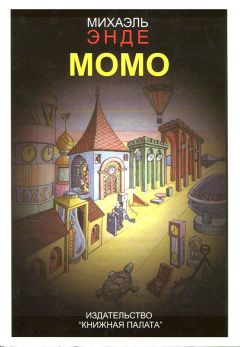Фигль-Мигль - В Бога веруем
При упадке духа врачи прописывают вареную курицу и стакан мадеры. (Шикарная болезнь — меланхолия.) А помимо того, что курица и мадера, можно с чистой совестью, встречая понимание, грустить о ерунде, о постороннем. Откуда, по-вашему, столько грусти, ведь он совсем не знал покойного, как вы думаете, можно ли по-настоящему привязаться к человеку, о котором знаешь только, что в ближайшую пятницу смешной срывающийся голосок расскажет о вещах, ни к чему не имеющих отношения. Как его звали? Никак; просто он жил где-то поблизости. Уже не живет.
Негодяев, этот истинный друг, всегда был тут как тут. Развлекал, тормошил, тащил в клубы и на концерты — учил готовить плов — ребенка учил рисовать пастелью и водил в Эрмитаж — принуждал работать, — сам пытался доллары из кармана доставать, честное слово. А вы как будто посмеиваетесь? Вы смотрите на этот чудесный антикварный диванчик в бледно-бледно розово-серых тонах, на котором сидит жена Евгения — отвернувшись от нас, лицом к сидящему рядом — да неужели они и за руки держатся? Да, держатся, и обратите внимание на колени — вот они соприкоснулись — прижимаются все теснее — вот и ноги сплелись — и руки, разжавшись, вольно странствуют — и пламенный поцелуй —
Фу, как нехорошо подсматривать. А интрижка с женой друга — хорошо? И кстати, засовывать язык в рот сейчас не модно. А как нужно? Нужно целовать верхнюю губу, без всяких там слюней. Все тинейджеры так делают.
Негодяев, как же вам не стыдно. Знаем мы эти “она сама”, вам-то самому зачем дана свободная воля? Уж, наверное, не на разные пакости, а если и так, то существует деловая этика; зачем гадить там, где ешь. Ну, а он что? Да что он, смеется. Легкомыслие только вчуже порок.
А Евгений все хандрил и хирел, в перерывах между концертами и пловом и в неперерывах тоже. Он забивался в угол. Он горбился и держал руки в карманах. Он молчал, и его голос умирал где-то глубоко, глубже горла. Прежде он говорил с неохотой, почти никогда — громко. Теперь он говорил совсем тихо и через силу.
Сейчас он покорно сидит на толчке, в руках у него журнальчик. Нет, тонкий глянцевый журнальчик опущен на колени — провисает между ногами чья-то одутловатая олигархическая рожа, — а в руке Евгений неторопливо мнет кусочек пипифакса: жена покупает дорогую, очень мягкую туалетную бумагу нежного цвета (в тон кафелю). Покорно. Как еще, если не покорно, можно сидеть, спустив штаны.
Фу, вы что же, и в сортирах подглядываете? А как же иначе, всюду жизнь. И чувства, которые мы так торопимся испытать, и спешка, которая так вредит. А какие замечательные мысли приходят в голову — хоть записывай. Вот и бумага, кстати. Знаете, что один мужик целый роман на рулоне пипифакса написал, чуть ли не Керуак? Человек на горшке — это штука посильнее, чем человек с ружьем. Чего только нет за потайной дверью, за болью и ознобом усталого тела. Не только зад, но и лицо оголено. Мы ведь не представили портрет нашего героя? Так смотрите, самое время.
У него худое, гладкое, тщательно выбритое, самое обыкновенное лицо (глаза невыразительные, нос никакой). У него короткие волосы, которые уже редеют — в его семье все рано облысели, даже у матери была маленькая плешь. Смотрите-ка, он улыбается. Робко, словно под чьим-то взглядом. Тихая улыбка: не размыкая губ, она что-то меняет в лице, взгляд становится почти осмысленным, вдохновенным. Потом он тускнеет, напряжение спадает, и лицо снова застывает, забывается. Такое вот лицо: ты на него еще смотришь, а оно уже забылось.
Между тем жена Евгения, дочь Евгения и Евгений Негодяев сидят за круглым столом в гостиной. Они пьют чай с какими-то замысловатыми пирожными. Кроме того, жена Евгения и Негодяев совещаются. Утром Евгений мимоходом сунул жене пару долларов и сказал, что на хлеб и этого хватит и чтобы его оставили в покое. У жены, разумеется, было кое-что припасено и припрятано, но это не решало проблемы. Будущее становилось мало что неясным — оно становилось неконтролируемым. Оно тяжелой тенью легло на безупречное лицо, фарфоровая чистота которого едва ли не отпугивала.
Девочка, развалившись на стуле, задумчиво болтает ногой. Бетси, говорит ей мать холодно, сядь прямо.
Лиза стала Бетси, получив вместе с новой комнатой, новой гимназией и персональной училкой английского и немецкого свод новых жизненных правил, но в десять лет ко всему привыкаешь быстро. Зачем, спрашивает она, не меняя позы. Затем, что горбатую тебя никто не возьмет замуж. Мама, но это глупо, говорит девочка. Ничего, говорит Негодяев, улыбаясь, найдется кто-нибудь такой же горбатый. Мадам кидает на него быстрый холодный взгляд. Негодяев небрежно пожимает плечами и протягивает девочке на кончике вилки (такая специальная широкая вилка-трезубец) кусочек пирожного.
Все-таки как хотите, а Мадам понять можно: Негодяев душка и петиметр будущего. Брови у него черные, а ресницы, длинные, без каких-либо ухищрений, руки ухоженные и всегда прекрасное расположение духа. Он был, по крайней мере, не из тех, кто на дорогой случай жизни держит единственный батистовый платок и пару хорошего белья. У него этих платков было две дюжины, и все он душил Фаренгейтом. В нем много было — как бы это сказать — наигранно старорежимного. К праздникам и дням рождения он рассылал открытки по обычной почте. Кофе он молол только вручную. Постельное белье он крахмалил, бумажные салфетки отвергал, жидкое мыло презирал, про быструю еду спрашивал: “а что это такое?”, писал чернилами, без напряжения и без претензий играл на рояле, не ходил в кино, чтобы не видеть попкорна, и упорно путал аденоиды с аонидами. У него было множество красивых бесполезных вещей. У него была табакерка. У него была коллекция тростей. У него был стиль. Он улыбался. С ним было весело.
А чем он занимался, этот недостойный и загадочный приятель? Чем занимался? Но, дорогой друг, мы вовсе не страдаем всеведением, мы можем только гадать. У Негодяева было очень много свободного времени, так что и профессию следует предполагать свободную. Он мог, например, быть барыгой, маклером, посредником, аферистом, воришкой, наводчиком, лжесвидетелем, политологом, доверенным лицом, не все ли равно. Род занятий мало что скажет о человеке. Да и что вообще можно сказать о человеке? Один какой-нибудь душистый платок, а? Одна улыбка.
Я боюсь, говорит Мадам, он стал какой-то дикий. Бетси, возьми ложку как следует. Твой отец заболел.
Наверное, живот схватило, отвечает девочка спокойно. Он уже полчаса там сидит.
Негодяев одобрительно улыбается.
— Бетси!
Лиза кладет ложку, встает из-за стола, вежливо говорит “спасибо” и уходит к себе.
Какое это счастье, дорогой друг, иметь возможность уйти к себе и закрыть дверь, иметь свою комнату. Сюда, правда, тоже проникла упорядочивающая и облагораживающая рука Мадам: мебель рекламной детской расставлена в строгом соответствии с рекламными рекомендациями, изгнаны вульгарные картинки и постеры, отрада шестиклассниц, вместо них висят гравюры, — зато гравюры выбирал Негодяев, и он же, в выражениях столь же разумных, сколь забавных, обосновал необходимость огромного яркого глобуса, а ведь Мадам на глобусе непременно бы сэкономила, был бы он маленький, невзрачный, на пластмассовой подставке, мгновенно ободравшийся, а то и вовсе никакой, при радикальной экономии. Ну-ну, прикалывайтесь. А в чем дело, у вас глобуса в детстве не было — или хотя бы мечты о глобусе? И чтобы это был глобус, да, а не орудие пытки из школьной программы. Бросьте, сами знаете, что не в глобусе дело, а в Негодяеве: с чего бы ему суетиться? Ах, вот вы о чем. Ничего подобного, ни сном ни духом — хотя если хотите потолковать о педофилии, то как-нибудь потом потолкуем, это любопытно. Любопытно?! Ах, не цепляйтесь.
о косах
Лиза останавливается у окна и угрюмо крутит прядь волос. (Мадам приспичило, чтобы у ребенка были косы. Косы — дело хорошее, но хотелось бы, чтобы хорошее было также и добровольным. У тебя чудесные волосы, увещевала Мадам, прекрасного пепельного цвета, очень редкого. Лиза эти чудесные волосы расчесывала с таким остервенением, что даже Евгений вспомнил семейные предания и слабо возвысил голос. Мог бы, разумеется, не беспокоиться.) За окном синеет и чернеет, и скованный льдом парк (ветви деревьев черные, как ресницы) гравюрой проступает в жирном желтом свете фонарей. В окрестных домах сияют витрины первых этажей и слабо теплятся окна повыше. Что-то сухое, невесомое медленно падает с неба на сухой холодный асфальт, струится в его трещинах, замирает. Девочка стоит у окна и смотрит, как наступает зима.
И вот наступила пушистая зима. Дни стали короткие, как спички, а ночи — ледяные, как купленный на улице апельсин. (А знаете, жалко, что апельсины продают теперь круглый год, утрачивается чувство смены сезонов. Когда Евгений — и Негодяев — и даже Мадам — и, может быть, вы, дорогой друг, — были маленькими, апельсины существовали в прочном ассоциативном ряду снег-елка-каникулы, и еще — черное утреннее небо в первый учебный день третьей четверти. О ненавистная третья четверть, ледяная, нескончаемая! Как жестоко и быстро она вытравливала из жизни острый и сладкий оранжевый запах каникул.)