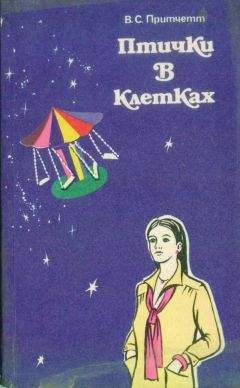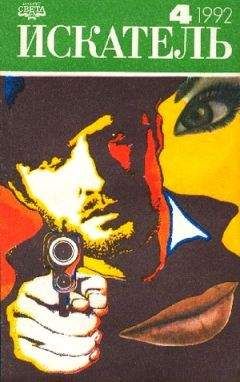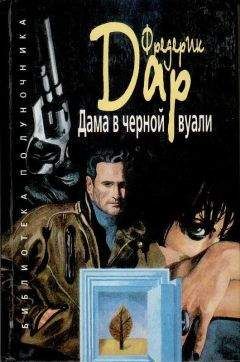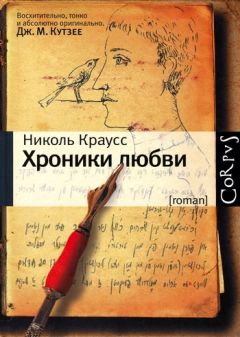Николь Краусс - Большой дом
Моя работа по-прежнему шла из рук вон плохо и как никогда медленно. Кроме того, я продолжала пересматривать ранее написанное и все больше убеждалась, что мои тексты слабы и фальшивы — одна бесконечная безмерная ошибка. Я заподозрила, что, вместо того чтобы обнажать глубинную суть вещей, истинные смыслы слов — а мне всю жизнь казалось, что я занимаюсь именно этим, — я на самом деле занималась совершенно противоположным: пряталась за слова, использовала их, чтобы скрыть отсутствие чего-то важного, некую тайную скудость, которую до сих пор таила от всех и — посредством сочинительства — от самой себя. Эта скудость с годами растет, и скрывать ее становится все труднее, потому и работать мне теперь так тяжело. Что за скудость? Полагаю, можно назвать это скудостью духа. Отсутствие силы, живучести, сострадания, и — как неизбежный результат — скудость самого результата. Пока книги выходят, остается некая иллюзия, надежда, что результат есть, просто мне его не видно. В ответ на любимый вопрос журналистов: «Как вы думаете, литература способна изменить человеческую жизнь?» (читай: «Вы, правда, думаете, что ваша писанина кому-то нужна?») — я неизменно предлагаю им провести беспроигрышный мысленный эксперимент: представьте, что все книги, которые вы прочли за всю жизнь, каким-то образом стерлись из вашей памяти и души, не содержание книг, а след, который они в вас оставили, — а теперь представьте, кем бы вы были. Пока журналист пытается вообразить эту ядерную зиму, я расслабляюсь с самодовольной улыбкой. Я снова успела спрятаться, избежать столкновения с неприятной правдой.
Скудный результат, порожденный скудостью духа. Это самые точные слова, ваша честь, точнее некуда. У меня получалось скрывать этот диагноз в течение многих лет: я оправдывала проявления анемичности в собственной жизни тем, что существую на более глубинном, значимом уровне — в творчестве. Но внезапно я обнаружила, что больше прятаться не могу.
С мужем я об этом не говорила. Даже с доктором Лихтман, которую регулярно посещала, пока жила в браке, я ничего не стала обсуждать. Поначалу собиралась, но каждый раз, когда приходила на прием, меня одолевала немота, и скудость моего духа, сокрытая под сотнями тысяч слов и миллионами мелких жестов, оставалась под спудом еще на неделю. Признать, что проблема существует, произнести ее вслух, означало бы расшатать скалу, на которую опиралось все остальное — тут же сработают датчики, взвоют сирены, и все это обратится в бесконечные месяцы и, возможно, годы говорильни, которую доктор Лихтман величала «нашей работой». Работа эта выглядела так: я мучительно ковырялась в самой себе множеством тупых нечутких инструментов, а она сидела в потертом кожаном кресле, подняв ноги на оттоманку, на коленях у нее удивительным образом удерживался блокнот, и она изредка делала в нем пометки, когда я, точно маленький упрямый рачок, на миг вылезала из своего убежища — мрачная, почерневшая — и сжимала исцарапанными клешнями крошечный самородок самопознания.
Я ни в чем не призналась, а продолжала жить как прежде, только нет, не как прежде, потому что теперь меня снедали стыд и отвращение к самой себе. В присутствии других людей, особенно С., ближе которого у меня никого не было, стыд только усиливался, а когда я оставалась одна, притуплялся, так что получалось о нем ненадолго забыть или, по крайней мере, не обращать на него внимания. По ночам в постели я сворачивалась у самого краешка, как можно дальше от С., избегала его взгляда, проходя мимо по коридору, а когда он окликал меня из соседней комнаты, отвечала с усилием, едва ли не понукала себя выдавить слово. Он тревожился, просил объяснений, но я пожимала плечами, говорила, что всему виной моя работа, и он отступался — он всегда отступался, я сама его так вымуштровала, чтобы иметь внутренний простор, — а я втайне обижалась и злилась, потому что не имеет он права не замечать, в каких страшных обстоятельствах я оказалась, как ужасно себя чувствую, как сержусь на него, нет — хуже — как он мне отвратителен! Да-да, ваша честь, я приберегла отвращение не для себя одной. Он был мне отвратителен, потому что за годы совместной жизни так и не разобрался, что его спутница во всем двулична, в том числе и в творчестве. Все в нем теперь меня раздражало: и в ванной свистит, и губами шевелит, когда читает газету, и губит любой прекрасный миг, потому что обязательно указывает на его прекрасность. Когда я не злилась на него, я злилась на себя, злилась и терзалась угрызениями совести, понимая, что приношу слишком много горя этому человеку, для которого естественное состояние — счастье или хотя бы радость, который умеет общаться даже с незнакомцами так, что они открывают ему душу, принимают его сторону, спешат оказать услугу, но при таком таланте ахиллесова пята его — неумение разбираться в людях, и лучшее тому доказательство — я. Он по доброй воле связал свою жизнь с недочеловеком, который постоянно проваливается под лед, с тем, кто оказывает совершенно противоположное воздействие на окружающих: они ощетиниваются, топорщат иглы и перья, словно ждут пинка.
И вот однажды он пришел домой очень поздно. День был дождливый, и С. явился мокрый, с прилизанными от влаги волосами. Он вошел в кухню прямо в пальто, с которого капало на пол, и с комьями мокрой земли на ботинках — он явно бродил по парку. Я, как всегда вечером, читала газету, и он встал надо мной, роняя капли на страницы. Сначала я решила, что он пережил что-то ужасное, чуть не погиб, или кто-то погиб в его присутствии, может под поезд в метро бросился. Такой у него был вид. Он спросил: помнишь цветок? Я никак не могла взять в толк, почему С., насквозь промокший, с пылающим взором, вдруг спрашивает о цветке. Фикус? — уточнила я. Да, фикус. Ты думала об этом фикусе больше, чем обо мне за многие годы. Я опешила. Он шмыгнул носом и оттер с лица капли. Я уже не помню, когда ты в последний раз спрашивала меня, что я чувствую, что меня волнует, что для меня важно. Я инстинктивно потянулась к нему, но он отшатнулся. Ты заблудилась в собственном мире, тебя занимает только то, что внутри, и ты заперла все двери. Иногда я смотрю на тебя спящую. Просыпаюсь и смотрю, и в эти минуты ты мне ближе, роднее, чем днем, когда бодрствуешь. Днем ты всегда настороже. А еще днем ты похожа на человека, который смотрит кино с закрытыми глазами, потому что показывают это кино изнутри, с внутренней стороны век. Я больше не могу до тебя достучаться. Когда-то мог, а теперь не могу, давно не могу. И не похоже, что тебе хочется достучаться до меня. Тебе это попросту не нужно. Рядом с тобой я чувствую себя более одиноким, чем с кем бы то ни было, чем когда иду один по улице. Можешь представить, как мне одиноко?
Он говорил и говорил, а я сидела и молча слушала, потому что знала: он прав. А потом мы — два человека, которые любили друг друга, пусть и не столь безупречно… которые пытались выстроить общую жизнь, пусть даже косо и криво… которые прожили бок о бок много лет и видели, как намечаются и углубляются морщинки в уголках родных глаз, как время капает там и сям серой краской, и вот уже кожа теряет румянец, а в волосах проступает равномерная седина… которые слышали, как другой кашляет, чихает, бормочет во сне… которые имели одну цель на двоих, а потом постепенно подменили ее двумя отдельными, менее вдохновенными, менее честолюбивыми целями, — мы проговорили почти до утра, и весь следующий день, и следующую ночь. Хотела было сказать: сорок дней и сорок ночей, но на самом деле хватило трех. Один из нас любил другого больше и лучше, смотрел на другого пристальнее, один умел слушать, а другой не умел, один цеплялся за ту, общую цель крепче и дольше, чем было разумно, а другой небрежно выкинул эту цель на свалку.
Мы разговаривали, и мой портрет постепенно проступал, прорисовывался, реагируя на обиды С., как полароидная фотография реагирует на нагревание; этому портрету предстояло висеть на стене рядом с тем, другим, с которым я жила уже несколько месяцев: писательница-вампир, которая обращает чужую боль себе во благо, которая — пока другие страдают, голодают и умирают от пыток — благополучно отсиживается в безопасном месте, гордясь своей особой чуткостью, умением уловить симметрию мира и связь вещей; она с легкостью, без помощи извне, уверовала, что ее личный жизненный проект служит некой высшей цели, однако на самом деле она всю жизнь пишет не о том и не так, она никому не нужна и, что еще хуже, она — мошенница, прячущая скудость духа за горой слов. Что ж, рядом с этим милым портретом я теперь повесила другой: портрет эгоистки, которая всецело поглощена собой и нисколько не заботится о муже, думает о нем гораздо меньше, чем о душевных извивах сотворенных ею персонажей, — вот их внутреннюю жизнь она обставляет тщательно, точно любимую квартиру, подсвечивает их лица софитами, убирает пряди с их глаз, чтобы увидеть душу. Погрузившись в эту выдуманную жизнь, она не ставит себя на место С., не пытается понять, каково ему переступить порог и увидеть — не жену, а спину жены; молча, не поздоровавшись и не обернувшись, она вздернет плечи и расставит локти, защищая свое крошечное королевство от любого вторжения. Да, я не пыталась представить, каково ему снимать обувь, проверять почту, складывать иностранные монеты в круглые коробочки от фотопленки и гадать, обдам ли я его холодом, когда он, наконец, рискнет ко мне приблизиться, рискнет перейти этот хрупкий мосток. Да, я его, как говорится, в упор не видела.