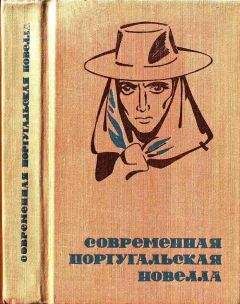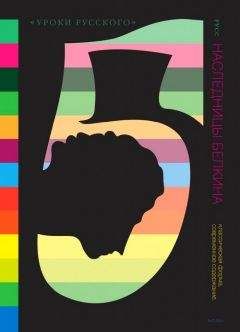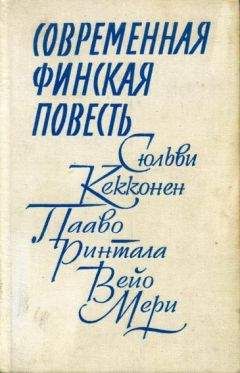Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
С Паулиной я забывал о себе. Скептический и печальный взор моего рассудка, помноженного на опыт и память, этот гипнотизирующий меня комплекс, от которого мне не всегда удается освободиться, скрывался под, пусть не слишком плотной, повязкой, которую накладывали поцелуи-укусы Паулины…
Я часто вспоминаю о ней: она была красива и добра, если можно назвать добротой ее преклонение перед прописными истинами и отсутствие склонности кому бы то ни было делать зло. Жаль, что она слишком часто твердила мне: «Такой человек, как ты… Тебе не следует… Ты не должен… Ты должен… С твоими возможностями…» Жаль…
* * *Ну и наслушались… На обратном пути я встретил знакомого, из мелких служащих, эта порода мне хорошо известна, и подумать только — и он там тоже драл горло, возмущаясь оскорблением, нанесенным храму финансов.
— Да вы знаете, все кричали «долой!», а я что, хуже других, что ли? Вы бы послушали, там один такую речь закатил, прямо мороз по коже! И все про самое важное, не какие-нибудь пустяки! Ну и я… не стоять же молчком…
Вчера (это «вчера» было уж не знаю сколько лет тому назад) я увидел мотоциклетный шлем (может, и в самом деле — вчера?), который придерживала рукой у бедра юная амазонка — ее поза напомнила мне ритуал посвящения в рыцари. Сейчас в Лиссабоне таких шлемов тысячи, у всех, у кого есть мотоциклы, мопеды и прочие символы скорости и в первую очередь — треска. Скорость, треск, а также смертельная опасность — их владельцы рискуют жизнью, чтобы почувствовать себя живыми. Сколько же лет тому назад — пять, десять, пятнадцать? Те же черные глаза, но волосы — темнее — цвета воронова крыла — оттеняли светлый шелк кожи, влажную мягкость рта; прибавьте к этому еще походку: упругую, зовущую, многообещающую… Она улыбалась, и от одной ее улыбки уже бросало в жар. На сей раз я остался невозмутимым — не хватило духа прорваться сквозь бесчисленные «зачем?», «да стоит ли?», «слишком уж много я себе позволяю», «хлопот не оберешься», — но тогда откликнулся на зов без размышлений, и все было как надо: поездка на пляж ночью, полнолуние и шелест волн в вековой тишине (ни танкеров, ни баркасов, ни мельканья заблудившихся огней). Потом, у нее дома, на нас тоже смотрело море с цветной фотографии, что висела на стене против постели, и звучали мелодии Баха, Вивальди…
У меня комплекс вины, я знаю. С каких пор? С чего это началось? В детстве меня, как и всех мальчишек, бранила, стыдила и даже наказывала мать, а меня самого грызла совесть — зачем я из «богатеньких», зачем я сладко ем и мягко сплю, а позже — зачем одеваюсь «прилично» (а иногда и вызывающе дорого) в стране голых, покрытых струпьями, грязных, изуродованных святым законом слепого повиновения горькой судьбе людей. И я мог позволить себе роскошь возмущаться. Теперь я болен, здоровье мое подорвано, то есть я хочу сказать, что всю жизнь работал сверх меры, и нервы больше не выдерживают. Чужого я не брал, ложь допускаю только в порядке законной защиты. Я изменял женщинам, но любви я не изменял. Так откуда же этот комплекс вины? Всегда меня мучила совесть за все на свете, и ни за что ни про что: должно быть, я из тех, кто виновен от рожденья. Наверное, поэтому я терпеть не могу фарисеев, святош, рядящихся в белые одежды, которые никто не отмыл бы от дегтя и ржавчины, если бы потворство преступлениям, корыстное предательство, политические махинации, лицемерие и ложь — все, что обрекает тысячи людей на смерть или каждодневное унижение и прозябание, — если бы эти способы подъема по общественной лестнице оставляли след. Но никаких следов не остается. И у таких людей обычно нет комплекса вины.
Что ж, посмотрим! Или нет: восстанем! Но как? Те, кого все это затрагивает в первую очередь, в большинстве своем не откликаются, наш призыв не подхватывается эхом! Нет сомнения, что в решительный час не мы, интеллигенты, окажемся во главе: впереди будут люди, более соответствующие такой миссии, более решительные, — из рабочих или из профессиональных революционеров, и они сделают все, что нужно. Но когда?
Помню ежегодный бал в Высшем техническом институте лет двадцать тому назад, форма одежды — смокинг (теперь студенты ВТИ ходят в потертых джинсах и альпаргатах), вечер был зеленый, потому что у нее были зеленые глаза и зеленая кофточка, мы танцевали и говорили вполголоса, разматывая клубок мыслей друг друга в надежде сделать их своими. Ни один из нас еще ни о чем не имел представления, мы жили книгочиями, вдали от жизни, в лоне своих буржуазных семей и жаждали духовных ценностей. Мы говорили о народе, о единстве, но, по сути дела, все это было обычным потреблением чужих идей, духовным стяжательством. Незадолго до бала я впервые участвовал в студенческой забастовке и теперь с увлечением вступил в игру мечтами наяву, и меня ждал довольно длительный бархатный плен, в котором были записочки, предосторожности, просьбы, самоотречение, уступки, лилии и бутоны маков, девственные простыни чистого льна, поцелуи украдкой, постоянный страх, медовая сладость бедер, белокурые волосы, короткие мгновения маленького рая в пустыне преддверия жизни, где всех нас ждет неизбежная разлука навсегда.
Лучше уж мелкие любовные приключения, случайные связи транзитом, своего рода распутство блуждающих звезд, чем такое расчленение — и раздергивание — живой ткани внутреннего мира, необратимое, любовно болезненное, печальное и бессмысленное.
* * *Многие мои сверстники, познав крушение надежд своей юности, поддались въедливому скептицизму и отгородились от всего стаканом виски. У других записные книжки пестрят именами девиц. Почти все еще читают. Стараются быть в курсе мировых событий. Комментируют. Тверды и справедливы — за столиком кафе. Продались немногие. Впрочем, может, их и больше, чем я думаю, кое-кто ловко маскируется. Все с большим или меньшим успехом изображают себя левыми либералами, у одних уже намечается брюшко, у других омертвела значительная часть совести. Остались верны своим идеалам лишь те, кто был истинным борцом: из них одни уже погибли, другие не гниют даже в застенках, есть и такие, кого неимоверные страдания разрушили физически, и такие, кто натягивает на себя грозящий опасностью наряд ночного мрака, живет зашитым за подкладку города, — у них всегда горят глаза, но от реальной жизни они далеки и порой плохо информированы, а некоторые из них увязли в бесчисленных прожектах, где желаемое выдается за действительность.
Все же время от времени приходят утешительные вести. Спячка оказывается не столь уж всеобщей, как это представляют себе сверхпрозорливцы и сверхкритики. В местечке Агадон, сельском приходе, где нет ни электричества, ни шоссейных дорог, на северном побережье Португалии, группа юношей, большей частью батраки, руководимые полудюжиной активистов, предложили построить своими руками, с денежной помощью эмигрантов, ни больше ни меньше, как Дом культуры! «Мы будем ставить спектакли, создадим библиотеку, и мы хотим, чтобы книги не залеживались на полках; мы проведем кампанию за массовый спорт среди прихожан, спорт мы понимаем как занятие для всех, а не как зрелище для пассивных болельщиков, и многое другое мы имеем в виду, о чем будем регулярно извещать читателей». Вот так и написано в газету: просто и деловито. Кто может этого не одобрить? Никто.
Задумайтесь на минуту, как живется людям в таких местах (деревня обезлюдевает: кто уходит через границу во Францию, кто в бидонвили под Лиссабоном, кто в ФРГ), и вас охватит ужас, — мы все виновны перед этими людьми, которые со дня рождения обречены быть навозом, а они больше не хотят быть им! Мы тоже жертвы. Но мы знаем: мы ничего не добьемся, если выйдем на улицу одни, со своим одиноким отвращением к миру нечистых сделок, косности, маниакального снобизма главных виновников — тех-кто-наверху.
Ну, хватит, пойду спать! В глаза бросается рекламный щит: белое поле, черные рыцари идут в сраженье, падают, поднимаются, снова падают и умирают. Как обжигающа горечь — волна ускользающего завтра, порыв ветра, высекающий слезы… Кто-то кричит мне: «Иди к черту! Одиночества не бывает!» Увы, бывает, даже среди дружно звучащих голосов надежды. Человек человеку — рознь, и никогда мы не будем одинаковыми, даже в свободном, по-настоящему свободном обществе с равными возможностями для всех.
* * *Ветреный, теплый день. Грохот разрушаемых стен, удары тяжелого молота о камень, сигналы автомобилей, сирены «скорой помощи». Растения на подоконниках, в витринах — новенькие холодильники, которые, возможно, тоже будут украдены, как это случилось с теми, что красовались тут раньше, и со всеми прочими, что были до того. У полиции дел по горло, и она не занимается такими пустяковыми кражами, которые разве что грозят разорением мелкому торговцу. Подобные заурядные преступления, хоть они и учащаются день ото дня, не слишком тревожат наших заправил, ведь, по их мнению, они — отдушина для низменных инстинктов толпы. Ограбления банков и эти, черт бы их побрал, манифестации — вот главная забота полиции, а от всяких обыденных правонарушений в умеренных масштабах сильным мира сего нетрудно себя обезопасить: для автомобилей есть гаражи, для золота — сейфы (и не только в своих банках, но и в банках всего света). Эти преступления не нарушают status quo[105], напротив, дают выход классовой мести, принимающей форму умеренного, почти консервативного бандитизма. Бывает, разумеется, что преступный мир вторгается в запретную зону и наводит страх на тех-кто-наверху, но тогда вся карающая мощь власти обрушивается на него и преследует со всей суровостью. И волей-неволей преступность возвращается к своим корням, в беспросветный плен нищеты и отчаяния.