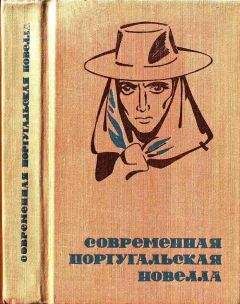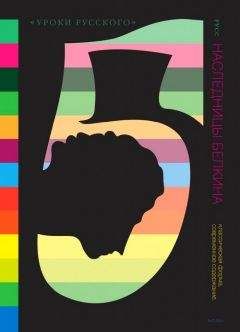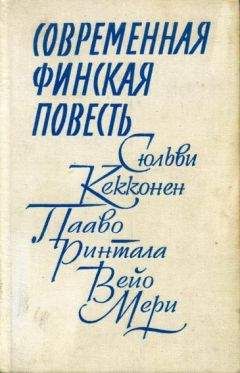Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
Наш мир — царство gadgets[101]: покупают рубашку, чтобы надеть один раз и выбросить (а есть люди, умирающие от холода, от холода и голода в теплых странах)… Загрязнена даже мечта об Эльдорадо. Социализм изобилия отступает на золотой берег (возможно, недалекий) страны «Никогда». Остается другой социализм, суровый и разумный, способный отказаться от многого, очень многого, во имя того, чтобы жизнь тех, кто придет после нас, была лучше нашей.
* * *Брúжида существует как Брижида только у себя дома. Она любит вещи, населяющие ее крохотное царство: картины, poufs[102], овальные желтые sofas[103], которые нужно надувать, как резиновые игрушки, три-четыре старинных предмета мебели, сохранившиеся у нее со времени, когда она подвизалась на сцене, низкая широкая кровать королевы, лишенной предрассудков. На людях Брижида — хорошо воспитанная, не первой молодости барышня, с рыжими волосами, несколько увядшим лицом и наклеенными ресницами. Все ее знают под именем Биби. Но дома, в своих владениях, она — Брижида: у нее вызывающее декольте, попросту говоря, обнаженная грудь, сверхминиюбка и высокие английские сапожки, то замшевые, то из мягкой черной кожи на ультрамодных каблуках. И еще хлыст. Когда же Брижида играет роль? На улице, где она милая и любезная девушка и плывет вместе со всеми на одном житейском судне, или у себя дома, на своем ложе-корабле, где она стонет и умирает от страсти вместе со своими случайными возлюбленными?
Ты заставляешь их осыпать тебя грубыми, грязными словами, которые даже нельзя назвать грязными, ибо эти слова привычно и естественно слетают с языка тех, кого ты заманиваешь к себе в постель и кого разве только огнем можно очистить от накопленной поколениями коросты нищеты. Но что ты знаешь о них, об этих белтранах и сикранах, чьи неловкие попытки взять тебя приступом (ведь им неведомы твои ритуальные ухищрения нимфоманки) разжигают твою извращенную чувственность? Их мужская сила восхищает тебя, а твоя опытность умело подстегивает их слишком бедное, на твой взгляд, воображение, превращая привычное для них соитие в любовную оргию.
На время ты делаешь их своими рабами, но вскоре, освободившись от твоих постельных чар, они начинают презирать и твои морщины, и твою развращенность в сочетании с хорошими манерами барышни из общества, всю твою неестественную двойную жизнь… Лишь когда ты плачешь, Брижида, ты естественна, и тогда тебя можно пожалеть…
* * *Жизнь каждый день ошарашивает нас, но каждый день я хохочу ей в лицо, пускаю в небо голубые шары и проделываю ежедневный путь (без багажа, даже без щетки для очистки совести от вонзающихся в нее колючек) от себя к себе и от себя к другим. Получаю письма из провинции и порой хватаюсь за голову при мысли о том, что за нелепый балаган наше так называемое разумное существование, эта повседневная тропа, которую мы не устаем топтать. Капля за каплей, иллюзия за иллюзией… Сегодня речь пойдет о статуях святых.
— Какие у вас прекрасные статуи! — сказал я мальчикам.
— Вам нравится? У нас их полно! А в церковь мама с папой не ходят.
У детей ведь что на уме, то и на языке.
Ухватившись за эту ниточку, я понемногу размотал весь клубок: на помощь, как обычно, пришел случай, и эта история о статуях, вышедших из-под резца старых мастеров, нашла здесь свое выражение в словах-медяках.
Я так и не смог уяснить, почему они венчались в церкви, будучи оба совершенно равнодушны к религии. Скорее всего это было уступкой семейным традициям, а тут еще просьбы родных и лень настаивать на своем. Но, возможно, и потому, что они оба — любители искусства, а в городке давно ходили слухи, что приор местной церкви (о, святая простота!) сжигал в печке деревянные статуи святых (подлинное барокко, ни больше ни меньше) только потому, что они потемнели от времени и были изъедены жучком, а ему нравились свеженамалеванные аляповатые куклы.
Наша молодая чета, кое-что смыслившая в деревянной скульптуре, поспешила осмотреть оставшихся святых, оценила по достоинству искусство неизвестных мастеров и решила поскорее приобрести у священника немногие уцелевшие статуи. Чтобы завоевать его доверие, они терпеливо выслушивали его проповеди, давились облаткой, до боли в коленях томились в клетушке-исповедальне (дело того стоило), но суровая душа священнослужителя была непреклонна. Сжечь — это одно, а продавать — совсем другое. Все же (не станем, однако, разглашать сей тайны) в конце концов священник продал им статуи, переговорив с каноником, безусловно более сведущим в делах такого рода, ибо еще задолго до того святой Себастьян, утыканный стрелами, был вынесен однажды из церкви средь бела дня и прямиком отправился в музей.
На этом наша история могла бы и закончиться, не окажись одна из статуй, перекочевавших из освященных стен провинциальной церкви в буржуазный дом в Лиссабоне, чудотворной! Да, да, именно чудотворной, каковой почитается и по сию пору, в эпоху трансплантации сердца и космических полетов, когда новые источники энергии не сегодня-завтра положат начало преобразованию общественных формаций! Но вера остается верой, и жители маленького провинциального городка стучатся в дверь к живущей там матери теперешней владелицы чудотворной статуи и ставят у нее в доме свечи. Не обходится и без телепатии, ибо святой, которому молятся там, в провинции Бейра-Байша, глядя на дрожащее пламя оплывающей свечи, снисходит к мольбам страждущих, хотя сам пребывает на берегу Тежо, в Лиссабоне…
* * *О нет, никакой упорядоченной биографии у меня нет. Если и была, так я ее растерял где-то по пути. Оглядываясь на прошлое, на голубоватый след, оставленный всем происшедшим со мной и тем, что натворил я сам, и понимаю: это все уже не мое. Мои потрескавшиеся ладони совсем пусты, я прижимаюсь лбом к мутному стеклу и сквозь его муть вижу себя таким, каким я когда-то был: вот я, в моем болезненном отрочестве отстаю от поезда, вот меня обрывают, не дав высказаться, вот я поднимаюсь по ступеням надежды, вот, окруженный агентами полиции, отправляюсь осваивать микрокосмос борьбы, вот я никак не могу приспособиться к вялому унынию служебных будней. Нет, если я и подчинялся, то без готовности, но во всем этом уже мало меня. И чем дальше, тем меньше, и теперь я — уже почти совсем не я. А может быть, я и не существую как единственная в своем роде личность, растворившись во всех произносимых мною словах, совершаемых поступках, меняющихся обличьях, истинных и неповторимых чувствах?
Вот почему эта книга никак не может быть связным повествованием. Она — опасная игра в прятки в полуразвалившемся доме (раз, два, три, четыре, пять — я иду искать!). Я отыскиваю никому не нужные мелочи в этом доме, на берегу реки, и дом этот похож на человека: его нельзя ни сдать в аренду, ни продать и он никак не хочет умереть.
Я приближаюсь (так, кажется, принято говорить?) к антицели, сорок пятой вехе жизненного пути, без холецистита, камней в почках, без аденомы предстательной железы, диабета или тромбофлебита, но зато с явно выраженным отвращением не ко всему и ко всем, как обычно это бывает, а просто-напросто к себе самому. К себе, как зеркалу окружающего мира, в котором вот-вот займется полупогашенный пожар.
В стране, что день за днем топчется на месте, не продвигаясь вперед и все больше привыкая к бесчеловечной жестокости, к узаконенным преступлениям, к захватившей все слои общества коррупции, — о святая матерь Нажива! — в этой стране я живу как идиот, ибо не покупаю акций, которые сегодня мне предлагают за тысячу эскудо с тем, что завтра их можно будет продать за двадцать, возвращая чеки, от которых пахнет взяткой, и так далее, в том же роде… Я не хочу чувствовать себя идиотом, но поневоле чувствую, когда меня унижают ослы, достигшие вершины успеха, и я вижу все их подлые махинации, но ничего не могу сделать, кроме как плеваться, пьянствовать, распутничать или исписывать бумагу, подводя горестные итоги всему вышеперечисленному; при этом я еще изо всех сил стараюсь эпатировать столь ненавистную мне буржуазную среду, из которой сам вышел и чьи родимые пятна ношу на себе до сих пор. И когда мне случается выйти на улицу или говорить с нелепых трибун, звезды, упавшие было ко мне в ладони, гаснут и растекаются какой-то отвратительной жижей, и в ней я вижу лицо грустного паяца и себя самого, с криками протеста пляшущего в хороводе вместе с прежними борцами, что ныне сдались, успокоились, покупают дома и надеются прийти к власти (над кем?), и вместе с теми, кто заявляет: «Меня это не касается», — и предпочитает тупое нищенское существование риску бунта; вижу негров с островов Зеленого Мыса, сходящих с корабля, чтобы по ночам убирать городское дерьмо, а днем — строить новые дома, вижу их немые темные лица, иногда красивые: по вечерам они торчат на уличных углах в Сан-Бенто, Кампо-де-Сурике или храпят в лачугах, приютивших их полуголодную полужизнь-полустрадание…