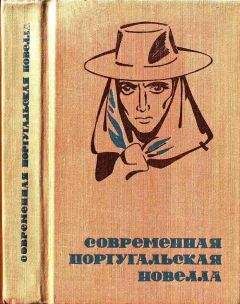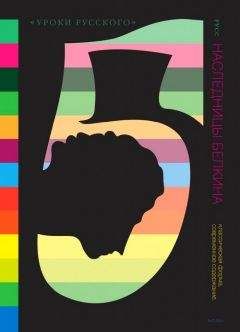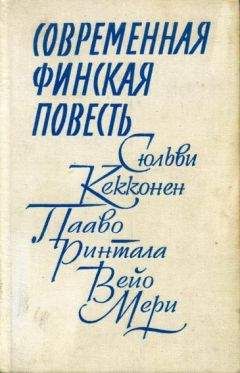Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
В жаре добела раскаленного августовского дня я на ходу засыпаю. Нежная Венера (ядовитая или отравленная?) с трудом всплывает среди тяжелых волн, прорывая коричневую пленку мазута, и плывет ко мне, поднимая в непонятном жесте-знаке пять пальцев-шипов. Птицы еще не все передохли. Во всяком случае, какие-то нищие, сидя на корточках в красной пыли, жарят воробьев, которых ухитрились наловить. Нищие черны, словно подгоревшие шкварки, впрочем, это не нищие: я вижу, как они карабкаются по залитой солнцем лестнице и балансируют на строительных лесах еще одного уродливого дома из тех, что растут, как грибы, в нашем квартале.
Когда я размышляю о том, что творится в мире, ладья моего сознания вырывается из сонного оцепенения, минует неведомые рифы, водовороты эгоистической пустоты, — да, я — эгоист, как и всякий, кто отваживается заглянуть внутрь своего «я», но в этом эгоизме — мутном и стремительном потоке, который подхватывает, вздымает и бросает, едва не разбивая в щепы, мой челн, без руля и ветрил, — в этом эгоизме есть и ожидающая своего часа щедрость: меня тревожит все, что происходит в любом уголке земного шара, тревожит и днем и ночью, и от этой постоянной тревоги я падаю духом. Но у меня нет выбора: ни один мыслящий человек, у которого осталась хоть капля совести и чести, не может не кричать «Нет!», даже если он успел разочароваться во всех рецептах, придуманных человечеством для своего исцеления.
Наша привратница моет лестницу и стонет: проклятый радикулит замучил ее вконец. Недавно я разговорился с ней (почему не дать человеку возможность излить душу, ведь мне это ничего не стоит — ну, потрачу каких-нибудь десять минут), и она рассказала мне, — ей ли не знать про все, что касается жилья, — мол, в старых домах теперь никто не занимает отдельных квартир, никому не выдержать такой дороговизны, — сдают комнаты жильцам, и получается нечто вроде тайных пансионатов, и можно себе представить, как скученно и мрачно живут в этих человеческих ульях! Треть населения столицы ютится в клетушках, пребывая к тому же в постоянном страхе лишиться и этого; другая треть, или чуть меньше, прозябает в трущобах или вот-вот туда переберется, куда еще денешься в нашем великолепном городе, сияющем яркими огнями над широкой рекой, в котором автомобилей больше, чем в любой другой европейской столице. На чем ты стоишь, Лиссабон? На проектных просчетах, на негодных перекрытиях, на «липовых» фундаментах, неспособных противостоять землетрясениям?
Рубили головы живым и мертвым. Паулина взяла мою руку и нежно глядела на меня, рисуясь и подражая кинозвездам (она ловко перенимала их жесты и позы, призванные изображать глубину мыслей и чувств, восторг, парение на крыльях мечты), и покрывала мне шею легкими поцелуями, при этом не забывая время от времени украдкой бросать взгляд на экран телевизора. Она признает, что телевизионные программы у нас идиотские, но отрешиться от их гипноза не в состоянии.
Рубили головы живым и мертвым. Пылали хижины. Наш век истекает кровью, кровь не перестает литься. Далекое всегда близко сердцам тех, кто не открещивается от него всеми способами. Хозяева ненавистны мне уж тем, что они — хозяева. Вот почему я и завел себе нескольких, хоть это довольно хлопотно. Но зато я всегда могу послать подальше того из них, кто осмелится меня унизить. Хватит с меня унижений, меня уже достаточно унижали! И не меня одного. Всех нас — всех, вот что важно. Что до меня (унижение моих друзей я пока еще воспринимаю как свое собственное и не могу избавиться от этой хронической формы глупости в мире желающих выжить любой ценой), то я теперь пользуюсь у хозяев большим уважением… Но это меня не утешает. Поздно. Я постоянно ощущаю на спине горб пережитых мною унижений.
Эта страна переполнена мошенниками, слепцами, калеками, нищими, палачами… Найдутся, правда, кое-какие святые души, безрассудные герои, те, что не от мира сего, силящиеся сдвинуть пирамиды существующих устоев, одолеть власть косности, власть золота, царящего в пышных особняках, на перекрестках улиц, улиц, где бьется, пока еще неровными толчками, сердце народа.
* * *Человека не разрежешь, как апельсин. Я говорю о внутреннем, глубинном разрезе, что же касается поверхностного надреза, то, увы, я прекрасно знаю: стоит снять кожуру ответственности с какого-нибудь не слишком высокоорганизованного, а то и даже вполне «приличного» человека (который мог бы всю жизнь оставаться этаким ангелочком), как он тут же станет считать своего ближнего предназначенной на убой скотиной.
Но даже в дружеском кругу, бегло и хитро прощупывая друг друга с помощью слов, не обнаружишь следов ржавчины на извилинах психического механизма. Говорится множество всякого, но потом выясняется, что мысли и чувства отнюдь не соответствуют словам.
* * *Он привлек мое внимание, когда остановился рядом и, стоя неподвижно, не отрывал глаз от неоглядной и уже почти опустевшей полосы прибрежного песка (торчали только столбы навесов) у подножья лестницы, что в три марша спускается с Пингима на отливающий кораллом Скалистый пляж.
Его сопровождала дама достойно-провинциального вида, ласково-сдержанная и проявлявшая заботу о нем без суеты, стараясь (как я подумал) при этом не задеть его самолюбия. В своем строгом черном платье она словно сошла со страниц доброго старого романа. Подобные люди встречаются: они ведут тихую жизнь (что такое «тихая жизнь»?!) в каком-то совсем другом измерении бок о бок с ультрамодной «Ьоîte» (имитацией волшебной пещеры из «Тысячи и одной ночи») суперамериканского отеля «Алгарве», среди автомобильно-мотоциклетного безумия, среди нескончаемых караванов из Скандинавии, устремленных к солнечным пляжам и злачным местам нашей гостеприимной страны.
В неторопливых жестах их тронутых желтизной рук сквозит привычная молчаливая нежность супругов. Должно быть, они вышли погулять перед сном. На нем — пиджак, жилет, галстук.
Они из другой эпохи, наглухо отгороженной от нашей. У старика (ему недостает лишь черного дорожного плаща, чтобы вообразить его пассажиром дилижанса) — красивое бледное лицо, грустное и спокойное. Смерть уже осенила его своим крылом. Он не обращал к своей спутнице ни слова, ни жеста. Полная отрешенность.
А между тем небо — в пламени заката, и вот-вот прожектора подсветки заставят засиять шафраном камни и цветы на склонах скал — то-то туристы зайдутся от восторга! Стихает восточный ветер, и ночь теплеет, волны перестают плясать и бесноваться и с тихой радостью, слегка пенясь, тянутся к берегу в предчувствии любви или смерти.
Старый господин смотрит на все это, словно прощаясь навсегда. Наконец я слышу его голос, слабый, надтреснутый, невыразительный, и голос этот пробуждает во мне тягостные воспоминания: один мой родственник, которого я очень любил, вот так же медленно угасал, дряхлый, немощный, вызывавший во мне острую жалость.
— Пойдем?
Как по-разному могут звучать эти слова! «Пойдем» — навстречу опасности, рука об руку, на мерцающий вдали огонек надежды, в самую гущу жизни, или — в тихий покой дома, темного и холодного, хотя на улице еще лето, чтобы там спокойно и достойно встретить свой конец.
Кто знает, быть может, это была его последняя прогулка!
* * *Густеет над морем апельсинный сок заката. Не то? Конечно, не то! Но когда я говорю, что пышные краски неба замешаны на морских испарениях, или что я заблудился в глухом лесу лет тридцать тому назад (в конечном счете — сегодня, сейчас, ведь другого времени просто не существует), что ночная жуть вызвала у меня медвежью болезнь, и я присел под сосной, — когда я говорю так, я уплотняю, преобразую, обхожу реальность.
В чем правда? Почему в моей жизни была та ночь страха и мужества, оставившая вечные ссадины на моих коленях? Почему я оказался в горах? Из чувства долга? Чтобы сохранить достоинство, не выказать слабости? По инерции? Из неумения сказать «нет»? Может, меня влекла смешанная со страхом любовь к риску? А этот страх, настиг ли он меня еще в сосновой роще моего детства или совсем недавно, какой-нибудь десяток лет назад, на суровом пути мятежа? Какая правда настоящая: вчерашняя, сегодняшняя, завтрашняя? Правда того, кто был мне товарищем в часы переброски через границу, или моя? А может быть, та, которая еще не вышла на свет, но в грядущие годы станет легендой?
Как сейчас, вижу пропасть под ногами, безумной крутизны тропу, на которую мы бросились очертя голову, сухие листья, предательские, скользкие, как солома; я так явственно слышу тишину, нарушаемую лишь раздраженным пронзительным криком совы и нарастающим урчаньем мотора еще далекого автомобиля, с которого не мудрено заметить нашу машину, оставленную на обочине…
В каплях пота на моих ладонях — все те же крохотные червячки. Вперед? Назад? А, все равно! На сей раз сон кажется правдой, пусть на какие-то мгновения. Ставка в нашей игре — жить или не жить, свобода или смерть.