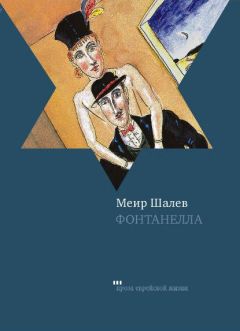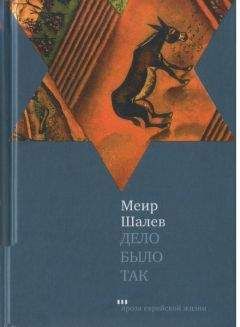Меир Шалев - Эсав
ГЛАВА 46
К сорока пяти годам Бринкер, некогда один из столпов поселка, утратил весь свой былой авторитет. Не было человека, который мог бы вынести поток невнятицы, изливавшийся из его рта, но не было и такого, кто не пытался бы использовать поразившую его афазию. Мертвая Хая хотела выжить его из дома. Соседи хотели перекупить его хозяйство. Ноах мечтал о наследстве. А сам Бринкер, который был умнее их всех, никому не возражал и ни с кем не спорил. Притворившись дурачком, он продолжал выращивать овощи, затеял разводить клубнику, продавал свою замечательную продукцию тель-авивскому отделению «Спини» и извлекал из своей болезни максимум возможного.
Когда ему принесли на подпись договор о продаже хозяйства, он радостно сказал:
— Позавчера тоже да карандаш только если не четыре, — и вышел из комнаты, словно собираясь сейчас же вернуться, но не вернулся, поскольку все и так ожидали, что он забудет.
Когда Ноах стал настойчиво требовать, чтобы он отправился в такое место, «где они смогут за тобой ухаживать, папа», Бринкер ответил:
— Если я конечно а также никто никто также мне, — поморгал своими голубыми глазами, улыбнулся глуповатой и радостной улыбкой в знак согласия и тут же уснул, положив голову на стол.
Что же до Мертвой Хаи, то тут Бринкер проявил себя во всем великолепии. Он неотступно следовал за ней и оплетал своими извилистыми, бессмысленными фразами. Все думали, что он просит жалости и внимания, и только я один понимал, что, заслонясь этой непрерывной болтовней, он осуществил свое давнее желание навсегда перестать с ней разговаривать.
Мертвая Хая и Ноах решили, что если они покинут дом, то он не сумеет управиться без них и ему придется капитулировать. В итоге эта парочка снялась с места, Бринкер остался один — и стал счастливейшим из смертных. Теперь он слушал музыку в полное свое удовольствие, читал газету (со скоростью десяти слов в час), избавился от пытки супом из петушиного гребня, и каждое утро запах омлета с петрушкой поднимался и реял над его домом, точно зеленоватый стяг свободы. Иногда мать приглашала его к нам на обед, а раз в неделю, когда варила мясо, приносила ему порцию из нашего горшка. Широкая кривая улыбка освещала тогда его лицо. Я хорошо его помню: вот он ставит тарелку на стол, берет обе ее руки в свои, глаза его лучатся и рот не перестает выплескивать нежные бессмыслицы.
Все это время я продолжал с ним заниматься. Я читал ему «Ури-кадури», что печатались на последних страницах детского издания газеты «Давар», потому что думал, что картинки помогут ему понять содержание. Медленно-медленно декламировал стихи, медленно-медленно водил пальцем по рисункам, и Бринкер никогда не улыбался.
Как-то раз я увидел его возле поселкового детского сада: он стоял с закрытыми глазами, опираясь на забор, и его лицо выражало ту же смесь тоски и желания, что лицо Шимона, когда он получал из рук матери свой кусок шоколада. Из окон сада раздавались ясные детские голоса: «Буква алеф — а-а-а, буква бет — бэ-э-э: ма-ма — ба-ба, ма-ма — ба-ба…» — и поверх всего этого гомона громкий и направляющий голос воспитательницы. То была новая воспитательница — девушка из хасидской семьи, которая ушла от веры и бежала из дому. Она была уверена, что нерелигиозные тоже учат детей читать начиная с трех лет, и не успела поселковая комиссия по образованию разобраться в происходящем, как в библиотеке Ихиеля Абрамсона появились несколько младенцев в мокрых штанишках с требованием выдать им книги.
Воспитательница была незамужней и симпатичной, и я подумал было, что Бринкер интересуется ею, но тут он открыл ворота садика, прошагал по двору, не открывая глаз, словно влекомый пением ангелов, и, войдя внутрь, уселся на один из маленьких стульев, чтобы учить вместе с ними утерянные слова.
Детишки, знавшие и любившие его, потому что он угощал их клубникой, обрадовались его приходу и тотчас сгрудились вокруг него, а воспитательница, прервав урок, спросила, что ему здесь нужно.
— Тоже маленький не страшно все в порядке, — заволновался Бринкер. — Сейчас ну так и есть потому что места могу.
Я вошел следом.
— Что ему нужно? — спросила воспитательница.
— Он хочет приходить и учить слова вместе с малышами, если это вам не помешает, — перевел я.
— Я не знаю, — смутилась девушка. — Это все же детский сад. И что скажут родители?
— Четыре, четыре! — воскликнул Бринкер возбужденно. — Даже где ты знаешь потому что это совсем и также есть это уже ну то сейчас он сказал.
— Он говорит, что не будет вам мешать и починит в садике все, что нужно, — объяснил я воспитательнице.
На следующий день, когда первые из детей пришли в садик, Бринкер уже ожидал их у входа во двор, взволнованный и нетерпеливый. Большая белая шляпа защищала его пустой, освободившийся от синтаксиса череп, большая корзина висела на его руке и две сумки — на плече.
— Ицхак, Ицхак! — закричали малыши.
Бринкер взял одного из них на руки и растроганно объяснил ему:
— Думаю так но также сидеть тихо на есть у меня это из-за него.
Он повесил свою сумку с едой меж детских ранцев. Потом подошел к ящику со льдом, стоявшему в кухне, и доверху наполнил его клубникой. Оттуда он вышел во двор и, вынув из второй сумки рабочие инструменты, поменял уплотнение в протекавшем кране и обмотал свежей паклей резьбу трубы. Сильными и умными руками натянул сетку забора, уже провисшую между столбами, как тряпка. С неожиданной кошачьей ловкостью взобрался на крышу и очистил водосточные желоба от еловых игл и синичьих гнезд. Потом спустился и с сияющим лицом уселся среди детишек, чтобы вместе с ними съесть утренний завтрак и приступить к изучению азбуки.
Так детский сад стал для Бринкера вторым домом. Дети любили его всей душой, и воспитательница тоже привыкла к его присутствию и научилась использовать. Каждый день он усаживался на один из маленьких стульчиков, вслушивался, наморщив лоб, в рассказики, которые она читала детям, и бормотал себе под нос гласные и согласные.
Я снова вспомнил те дни, потому что недавно отцовский врач сообщил мне свое новое умозаключение: язык боли — это не просто язык метафор, но всеобщий, универсальный праязык, состоящий из одних лишь гласных.
— Это подлинный эсперанто, это предтеча всех слов, — с воодушевлением провозгласил он. — Стон боли — самый универсальный и самый понятный звук в мире, и именно поэтому А — первая буква во всех современных языках.
Так он сказал, и я невольно задумался над этим его «А», которое тут же назвал про себя: «Ааа… боли», и о прочих его дружках: «Ллл… — любви», «Ккк… — сравнения», «Ннн… — ненависти», «Ммм… — вспоминания» — и вот тут-то я и вспомнил Бринкера: как он играл с детьми, прыгал с ними по ступенькам согласных, скакал через веревочку слов, погружался в топкую песочницу синтаксиса. По прошествии шести недель налицо был впечатляющий прогресс: во дворе выросли предназначенные для детских игр разноцветные автомобильные шины, сломанные куклы вновь открывали и закрывали глаза, ухоженная трава окружила ящик с песком — и Бринкер не выучил ни единого предложения. Слова порхали вокруг его пустого черепа, то и дело усаживаясь на нем для минутного отдыха, но ни одно из них не пустило там корней.