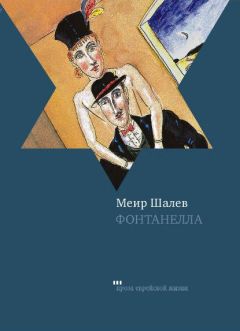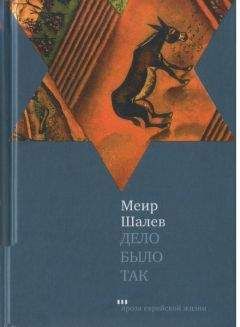Меир Шалев - Эсав
— Иди, иди, — сказал он. — Еще спину надорвешь.
Грузовик выехал со двора, и Шимон пошел прибрать в пекарне. Я вынес брату чашку кофе на веранду. Двое мужчин прошли мимо забора, и Яков кивнул им. Оба были нарядно одеты, у каждого в одной руке портфель, в другой — пластиковая сумка с покупками. Они посмотрели на нас и слаженно поклонились.
— Доброе утро, — сказали они.
— Утро доброе, — ответил брат.
— Вы не приходите к сыну, — сказал тот, что постарше, как будто всего лишь констатируя некий факт, а второй печально улыбнулся и покачал головой.
— Я прихожу, я прихожу, но не каждое утро, — ответил Яков.
— Кто это? — спросил я, когда они прошли.
— Коллеги по кладбищу, — сказал Яков. — Отсюда, из поселка. Ты не видел их еще? Каждое утро по дороге на работу идут туда побеседовать с сыновьями. Один раз тот, что помоложе, пришел поговорить по душам. Рассказал: «Мы с женой спим вместе, но плачем порознь, она больше не смотрит ни в зеркало, ни на меня». Понимаешь, она злится на зеркало, что не похожа на своего мертвого сына, и злится на мужа, что он ей этого сына сделал. Ты не поверишь, что он мне еще сказал: «Твое счастье, что твоя Лея все время спит и тебе не приходится видеть ее открытые глаза».
Яков снял ботинки и шумно вздохнул. Долгое стояние у печи, утверждает он, калечит спину и укорачивает ноги. Теперь он высвободил большие пальцы ног, и его лицо сделалось мягче.
— Делить удовольствия — большого ума не надо. Достаточно года совместной жизни, и всякая женщина уже знает, каким способом ее муж получает удовольствие. Но ни одна из них не знает, каким способом он скорбит. Что ты на меня уставился? Что ты вообще об этом знаешь? Что ты вообще знаешь о жизни? Было время, когда я думал, что знаю Лею так же, как знаю каждый кирпич в печи. Сколько молока в кофе, сколько лимона в чай. На рассвете я выбегал на минутку из пекарни приготовить ей зубную щетку и положить пасту, точно как она любит, чтобы все это уже ждало ее на умывальнике. Всё. Маленькие капризы, большие капризы. Пока Биньямина не убили и я увидел, что не знаю ничего. Скорбью и страданием поделиться нельзя. Это тянут на себе в одиночку. Не открывают никому.
Бессонная ночь, памятник сына словно каменная стена между ними, и каждая былая размолвка становится страшной раной, обвиняют себя совместно и себя по отдельности, а главное — друг друга. А этим поцам главное — сделать мне замечание, что я не хожу к Биньямину. Можно подумать, что я должен отбивать карточку на его могиле. Но я тебе скажу — когда наши сыновья были еще детьми и были живы, эти двое объявили мне войну, хотели выжить пекарню из поселка. Бедняга Биньямин — с тех пор как его убили, никто не осмеливается меня задеть. Теперь они вдруг мои лучшие друзья. Ты не ходишь к сыну… почему тебя не видно… приходи на эту церемонию… приходи на ту церемонию…
— Я тоже не хожу, — сказала мне Роми. — День памяти — это для тех, у кого в семье нет убитых. А для нас это безумная беготня ко всем камням и стенам, где написано его имя. Кому это нужно? И так не проходит дня, чтобы я не думала о нем, и для меня день поминовения — когда я его видела в последний раз. У меня есть даже его последняя фотография. Вот такая огроменная. Чего ты смеешься, дядя? Как тебе не стыдно?
В ее комнате есть тумбочка с десятками плоских ящичков: «Цитология», «Эмбриология», «Биньямин», «Споры растений», «Семья», «Проект», «Мой отец», «Мой отец», «Мой отец»… Пятнадцать ящичков «Мой отец», призванных в итоге образовать ту выставку, которую она хочет сделать о нем.
Ее деревянные босоножки стучат по полу. Она выуживает из ящика «Биньямин» большую фотографию: он в форме, спиной к камере, только лицо повернуто назад — немного удивленное, но веселое и улыбающееся.
— Это было воскресное утро, он вышел со двора на большую дорогу, чтобы поймать там попутку на базу, а я побежала за ним и крикнула: «Биньямин!» Он повернулся, а я нажала на спуск и поймала его. Это придает людям очень интересное выражение. Из-за неожиданности и еще потому, что у них напрягаются шейные мускулы. Когда-нибудь, когда я кончу с отцом, я сделаю специальную выставку таких снимков. Я уже придумала для нее название. «Выстрел в спину». Я буду окликать людей сзади и фотографировать, когда они обернутся.
Яков допил свой кофе, спустился с веранды, закрыл ворота и вытер руки о штаны.
— Ну, что, пошли поедим?
ГЛАВА 45
Как-то раз, перед вечером, вернувшись от Леи, я увидел двух медососов, которые стучались в сетку кухонного окна, — самца в его черно-зеленых, немыслимой прелести переливах и самку в ее серенькой скромности. Я распахнул окно. Крохотные птички, которые обычно кормились сладостью цветов жимолости и никогда не проявляли интереса к людям, впорхнули внутрь и направились прямиком к плечу Якова.
Отец глянул на них, покачал головой, а потом принюхался к ощетинившейся волосками коже брата, провел по ней пальцем и сунул его в рот.
— Углом, — сказал он, — у тебя сладкая кожа. Ты знал об этом?
Яков раздраженно ответил, что не знал, но, на его счастье, Господь даровал ему такого всезнающего и зоркого папашу.
— Вспыхивает, как спичка, этот пележон[90], —заметил отец и объяснил нам, что сладкий пот — это «знак». — Тебе нужна женщина, — сказал он.
— Кто бы мог подумать! — проворчал Яков, а я рассказал анекдот о трех увлечениях гувернантки из Берлина и добавил:
— Кому в нашем возрасте не нужна женщина…
— Откуда у вас такие слова, дети? — удивился отец.
— Ну вот, сейчас начнется! — Яков хлопнул меня по плечу. — Нам нужна женщина, а он уже приготовил для нас какую-то притчу.
— Пекарь Эрогас, светлой памяти, был такой сладкий, что муравьи так и лезли ему на ноги… — начал отец.
— Так, поехали, — застонал брат.
— Дети бежали за ним по улице и лизали его… — продолжал отец.
— То-то у него все время стоял, — шепнул я брату.
— Как тебе не стыдно! Не смей так говорить! — прикрикнул на меня отец и повернулся к Якову со странным выражением гордости. — А ты не смейся! Это у тебя из Иерусалима. Здесь такого нет ни у кого. Этому, — он показал на меня, — нужен только он сам. Но тебе, углом, тебе нужна женщина.
— Только тебя нам не хватает, чтобы понять, что нужно ему и что нужно мне! — Яков смахнул с плеча двух опьяневших птичек и вышел из кухни во двор. Я так и не понял, на кого он сердился — на отца, на меня или на свою собственную кожу, предательницу и сплетницу, выдавшую секрет его плоти.
Отец высунул голову в окно и крикнул ему вслед:
— Ты зря сердишься. Все проходили через это. Ты что, думаешь, ты сам это выдумал? — И повысил голос: — Это еще цветочки. Потом будет хуже.