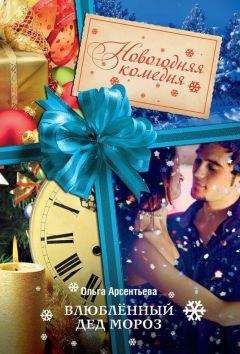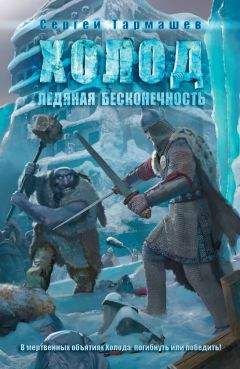Курилов Семен - Ханидо и Халерха
— А я больше ничего и не хочу делать. Мне наплевать, что там шаманы в бедных стойбищах вытворяют…
— Может, ты забыл, что когда-то наши люди за ножи хватались. Кака не доведет до добра: по ухватке вижу. И Тачана такая же. Кого, скажи, Друскин призовет тогда? Шамана? Тебя призовет, меня призовет. А то еще и к царю повезут. Мельгайвач и Сайрэ грызлись — а чукчи с юкагирами чуть врагами не стали. Было такое?
— Ну, до этого мы не допустим. Мы же все братья, — сказал примирительно Чайгуургин. Он повернулся и закряхтел: — Ох… Вроде опьянел, а боль чую.
Каку все равно вызывать придется: а то как бы в тот мир не уехал… Что там у тебя, Потонча?
— Хе-хе-хе… Господин с госпожой и туз — все козырные…
Куриль бросил карты, остальные тоже.
— Еще выпьем! — предложил Тинелькут, — Сейчас молодые придут, а мы слишком серьезные… Нальем?
— Оленя там закололи? — спросил Потонча.
— Жена все слышала. Она догадливая у меня… Выпили?
— Выпили…
Гости, однако, и без того уже опьянели. Но горькая вода из плоских и круглых бутылок забулькала снова.
— …Я тебе, мэй Чайгуургин, еще и такое скажу, — не успокоился, но уже стал заплетать языком Куриль. — Ты там, на ярмарке… лежал в яранге и охал. А я… ходил… Все видел, десятью глазами смотрел… Богатая ярмарка?.. Никто не помнит такой богатой. Петрдэ вон спит, а то бы сказал, как было раньше… Да Тинелькут помнит… Нет… сбился я. Забыл, что сказать хотел…
— Выходит, сказать хотел, что легче жить будет, — напомнил Тинелькут, который хитрил — пил меньше других.
— О! Правильно!.. Сейчас люди без чая? Так? Без табака? Так?.. Колымчане голодают? На Алазаи что?.. Эх… Да, говорю: попрет товар в тундру, а царь ясака прибавит. Вот…
— Пусть. Пороху больше, чаю-табаку больше — и песца больше…
— Песца больше — шаманов больше! — сказал Куриль. — И шаманы жадней… Ты, Чайгуургин, ты, Тинелькут, вы все, друзья, понимаете? Ясак… С шаманов его не возьмешь.
— Э, Куриль, чего о том толковать! Соберем… любой ясак… Соберем! — Чайгуургин хотел вздохнуть и потянуться, но схватился за грудь, сморщился. Перетерпев боль, он уже не так бодро спросил: — Скажи, что собираешься делать?
— Черную веру хочу заменить светлой. И все! И конец!.. Поставь-ка церковь, да своего попа туда… Как? Другой разговор? Да приветь попа… А две веры — много… Мешают шаманы мне…
— Мудрый ты человек, Афоня! — сказал Потонча, который был трезвей всех, трезвей даже Тинелькута. — Не зря тебя Том обнимал.
— Обнимал, не обнимал — ты не видел, — огрызнулся Куриль. Пьяная гордость требовала не опускаться до похвал Потопчи, хотя слова его были сказаны как раз кстати.
— Стало быть, что делать-то и не знаешь!.. А ну, Лелехай, налей-ка мне еще кружку. Напьюсь так, чтоб и боль не чуять, и все разговоры забыть, — сказал Чайгуургин.
— Знаю, что делать! Дом божий ставить буду… И повыше, чем в острогах…
— Ну? Так ведь две же веры получится? С шаманами как поступишь? Сечь тальником будешь? Или как?.. Смотри, Апанаа!.. От злых келе бог, может, защитит тебя. А уж от исправника защиты не будет.
— Поп сказал тогда, что лучше с шаманами не связываться, — добавил, еле выговаривая слова, огненный от вина Лелехай.
— Вот с шаманами как — не знаю, — сказал Куриль, тоже заплетая языком. — Не знаю… А церковь срублю… — Он вдруг весь напрягся, напыжился, покраснел и, тряся для убедительности руками, выговорил совсем уж несусветное: — Шаманы, шаманы! Кто такие они? А я, может, головой всей Кулумы стану! Может, я купцов со всего мира сюда зазову…
— Это вместо Друскина? — спокойно спросил Тинелькут, понимая, что голова юкагиров спился.
— А березовые палки везешь церковь строить? — не удержался от насмешки Чайгуургин.
Куриль пошевелил губами, грозно поглядел поверх голов богачей и, не то поняв, что сказал лишнее, не то обидевшись на всех сразу, нахмурил свой высокий лоб, встал и молча направился к выходу.
А богачи загалдели, зашевелились, устав сидеть на одном месте. Кто-то запел тихим хриплым баском, но этого голоса было достаточно, чтобы и других потянуло на песню.
И пошел разливаться поздний ночной пир уставших, пьяных и сытых людей, которые продолжали, однако, пить, есть, говорить, спорить, доказывать, мало что при этом запоминая.
Тут-то и появился Ниникай со своей невестой. Невесту знали Тиненеут.
Это была рослая, круглолицая, молодая чукчанка с широко расставленными глазами, пухлыми губами и тонкими сине-черными нитями татуировки на смуглых щеках. Уже беременная, невеста робко дышала грудью, поджимая чуть обозначившийся, но заметный живот, который напрасно пытался заслонить малахаем ее немного подвыпивший, однако сильно настороженный жених. Ниникай напрасно переживал: все были настолько пьяны, что не разглядели бы даже младенца под ее керкером… Худой, узкоплечий старик лет восьмидесяти — отец Тинелькута и Ниникая и сгорбленная старушка с трубкой в сморщенном провалившемся рту — их мать быстро пробрались вперед, тоже загораживая молодых. Возле них остановились родные невесты. В ярангу набились другие женщины и мужчины, создав невозможную тесноту.
Тинелькут передал всем родителям и своей жене кружки с горькой водой.
— А вам нынче нельзя, — сказал он жениху и невесте. — Нынче мы за вас будем пить.
— Ну что же… — заговорил старик, видя, что гости размякли и требуют быстроты дела — чтобы зашуметь, взбудоражиться из последних сил. — Ну, значит, семейный теперь Ниникай. Значит, не один теперь будет табун, а два, и стойбища будет два: табун и стойбище Тинелькута, табун и стойбище Ниникая. — Он отхлебнул горькой воды и продолжал: — Живите, сыновья, дружно и поближе друг к другу, а каждый из табунов пусть скорее станет таким, как этот общий табун. Будьте богаты, здоровы и счастливы; живите, молодые, по законам нашего рода и наших обычаев… А свадьба, вижу, хорошая: и богачи с разных сторон приехали, и горькой воды много. Настоящая свадьба, хорошая свадьба…
Родители и родственники выпили, передали гостям кружки, и горькая вода снова забулькала в кружки и мимо кружек.
Гости стали хвалить жениха и невесту, но больше невесту:
— И где молодых девушек находят таких?
— Хороша… Ну совсем как двухлетняя важенка.
— Красива, ох красива!
— Целую кружку выпью за нее и за счастье Ниникая…
Тинелькут поспешил распорядиться, чтобы молодые ложились спать за материнским пологом, потому как поздно и трезвым сидеть с пьяными не интересно.
А на дворе все усиливался и усиливался порывистый ветер. Под грохот ровдуги пир начал быстро стихать; многих давно уж клонило ко сну, а в непогоду засыпается легче и слаще.