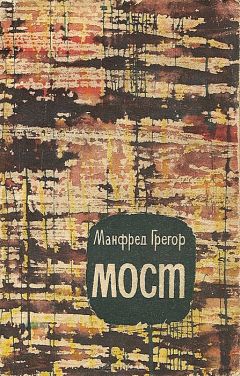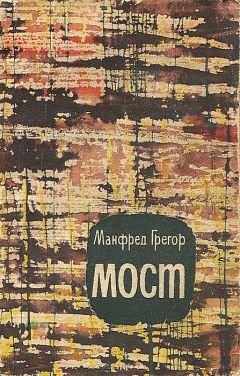Дина Рубина - Коксинель (сборник)
– Погоди! – сказала я. – Но Альфонсо все-таки здесь. Все они здесь. Как же он ее разыскал, сестричку?
– Выходит, разыскал… – кивнула Таисья. – В этой стране разыскать кого хошь – раз плюнуть. Надо только встать на табуретку и крикнуть погромче… И насколько я теперь понимаю, ребенок из-под этой женщины, которому так радуется, которого так ждет бедняга Люсио, имеет к нему такое же отношение, как и ко мне…
И вновь меня заворожила пастушеская красота этого образа: ягненок из-под овцы, ребенок из-под женщины…
– А ведь Люсио не дурак, ой не дурак! И поверь мне – человек он нешуточный, даром что шута играет. К тому же, в отличие от них от всех, он испанец, испанец до мозга костей…
Она поднялась, взяла со стола обе наши чашки и, подойдя к раковине, принялась с усердием мыть их посудной губкой.
– Судя по всему, – проговорила она, – финал оперы досмотрим из самых первых рядов партера.
Я молча наблюдала за ней. Словно почувствовав мой взгляд, Таисья обернулась, несколько мгновений смотрела мне в глаза и вдруг твердо проговорила:
– Нет, милка моя. Плохо же ты меня знаешь! Слишком много в жизни били меня, да и я многих била, чтоб сейчас пойти на этот легкий выигрыш. Нет, я в драке по яйцам не бью. Я Альфонсо и без того низвергну… – Она вытерла со лба брызги сгибом кисти. – И знаешь… я как-то по-другому на него взглянула. Он, конечно, низкий, изворотливый, неверный человек, но… любить-то как умеет! Как умеет любить эту свою судьбинную женщину-сестру! Тайно, страстно, воровато, коварно! – Она вдруг глубоко, сильно всхлипнула, слезы разом покатились из глаз, как это бывает только на киносъемках. – Любит, преступно попирая прах отца!
Таисья стояла у посудной раковины, закинув прекрасное заплаканное лицо, рыдая над несчастной любовью своего заклятого врага, любуясь этой неистребимой страстью и преклоняясь перед ней. И в эти минуты сама была достойна увертюрных вихрей любой гениальной оперы.
Потом, успокоившись, села за стол, подперла кулаком щеку и стала тихо рассказывать, как они со Шварцем гуляли по прибрежной деревушке Моанья и как им встретились два рыбака, несущие на палке огромную рыбину. Как рыбаки остановились, отсекли острым ножом рыбью голову, бросили ее на дорогу, а рыбу понесли дальше. Мужички приземистые, с толстыми шеями, бедно одетые…
– Север Испании… – сказала она. – Нет. Жить бы я там не взялась…
Часть третья
Как бы я хотел забыть лицо твое, изменница!
Твое темное лицо, обезображенное предательством.
Твои ненавистные глаза, источающие злобу…
Твои брови, как две змеи, жалящие в сердце.
Твои губы, оскверненные лживой клятвой.
Как бы я хотел забыть лицо твое, изменница!
Но лишь прикрою веки – передо мной, как живые,
Твой светлый лик, осиянный смертными муками,
Твои ясные глаза, источающие любовь, как мед,
Твои поющие брови – пара воркующих голубей,
Твои нежные губы, шепчущие слова страсти…
Кровь твоя, пролитая моей рукой, давно остыла.
Душа моя, убитая твоей рукой, давно остыла.
Лишь память, ненасытная память, как коршун, терзает,
Не дает мне забыть лицо твое, изменница!
Глава четырнадцатая
Еще мгновенье – и забудем мы
О балаганах, лавочках, палатках
И всех шатрах, где жило волшебство
и кончилось…
Приближался Пурим. Коллектив Матнаса готовился к празднику в точности так, как коллектив Дворца железнодорожников готовился, должно быть, к энной годовщине Великого Октября.
По четвергам, надувая жилы на шее, Альфонсо рвал и метал, требуя от каждого координатора плана подготовки к Пуриму, список мероприятий и экскурсий.
– Каждый житель нашего города должен чувствовать себя вовлеченным в праздник! – кричал он, выстукивая ладонью по столу ритм фразы. – Житель города – участник карнавала!
Через каждые два-три слова он упоминал этого усредненного «жителя», что на иврите звучит как «тоша́в».
В моем измочаленном двуязычным звучанием воображении некий тоша́в, сидя верхом на другом тошаве, догонял третьего, шамкающего и шаркающего тошава.
«Вша-а в кало-оше, – лихоманил за балконом ветер, – ша-авка то-ощая-а, тоска-а шака-алья…» – и срывался на присвистывающую скороговорку:
– Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка-тошка! – и взвывал шепеляво: – То-ошка, милый пе-осик, это же наш Страши-ила!
И наоборот, слово «охлусия́» – «население» – вызывало в моем воображении – ох! – взмах цветастой юбки, свист хлыста, тихий хохот вееров, рассекающих знойный воздух Андалусии…
Предстоящий карнавал будоражил воображение нашего директора. Он заставил завхоза Давида связаться по сотовому телефону с одним из иерусалимских театров насчет костюмов. После длительного выяснения отношений с завкостюмерным цехом Давид доложил, что костюмы нам могут выдать только такие, что не заняты в спектакле на этой неделе.
– Какие же? – нетерпеливо крикнул Альфонсо.
– Какого спектакля? – уточнил в телефон Давид и, прикрыв трубку ладонью, сообщил: – Какой-то «Сид… чего-то… тореадор», кажется.
– «Сид Кампеадор», – сказал Люсио. – Это спектакль из рыцарских времен. Латы, шлемы, бутафорские мечи… Нормально.
– Отлично! – воскликнул Альфонсо. – Мы устроим колоссальное представление. Стойте! Мы разыграем сами спектакль из рыцарских времен, да-да! О, это гениальная идея! Люсио, ты напишешь пьесу, и мы все разучим роли. Я буду в главной роли этого… этого…
– Сида Кампеадора, – подсказала Брурия насмешливо.
– Да! Ты будешь знатной дамой, Люсио – моим шутом, а вы все – моими придворными… – Он обвел коллектив Матнаса торжествующим взглядом ввалившихся глаз. – Мы наконец повеселимся!
* * *А меня продолжал донимать Бенедикт Белоконь из Ехуда.
– Вы упорно манкируете нашим замечательным художественным коллективом! – с веселым напором кричал он в трубку. – Нам рукоплескали Маалот и Кирь-ят-Арба, Беэр-Шева и Офаким!
– А сколько человек в вашем коллективе?
– Со мной – пять!
– М-м-м… Каковы ваши условия?
– Нести людям счастье! – крикнул он, произнося это слово как «шасте».
– Вы меня не поняли. Каков обычно гонорар за ваше выступление?
– Та никакого ханарара! – заорал он. – Мы выступаем бесплатно!
Я смутилась. Вот тогда бы мне и заподозрить неладное…
– Но позвольте… Одна только дорога из Ехуда и обратно обойдется вам…
– Та у меня микроавтобус! – оборвал меня энтузиаст. – Повторяю, нам ничего от вас не нужно. Наша цель – дарить людям шасте.
– Ну… хорошо, – промямлила я, – не хотите ли приехать на Пурим? У нас торжественный вечер с легким угощением.
Я предложила дату осторожно, готовая к отказу. Дело в том, что ни один уважающий себя музыкант или артист не соглашался выступать на таких закусочных вечеринках среди столиков, за которыми мои общительные деды булькали кока-колой, шуршали обертками вафель и переговаривались свистящим полукашлем.
– Нам все годится! – заверил меня Бенедикт Белоконь. – Искусство принадлежит сами знаете – кому.
* * *Поединок между Таисьей и директором Матнаса клонился, похоже, к ее победе. То ли «спина» в верхах, на которую опирался наш директор, несколько притомилась от тяжести всех его хамских выходок, то ли сказались отменные бойцовские качества Таисьи, но только недели за две до Пурима Альфонсо вызвали «Куданадо», и «Ктонадо», по-видимому, объяснил ему, что увольнение Таисьи обойдется Матнасу в такую копеечку (в связи с ее долгой беспорочной дружбой с «Кемнадо»), что дешевле уволить самого Альфонсо.
Тот бился, кричал, что ни при каких условиях не должна остаться строптивая Таисья в пределах его владений.
– Я или она! – восклицал он. – Она или я!
Ему, видно, намекнули – кто. Из секретных источников Таисье стало известно, что «спина» – защитница нашего директора, – сытая по горло его выкрутасами, вызвала того на ковер и конфиденциально вломила по самые гланды. А напоследок, грозно кивнув на страницу услужливо развернутого перед ним секретаршей журнала мод, покровитель якобы сказал:
– И сколько можно всенародно задом вертеть в разных штанах? В твоем возрасте уже надо выбрать: молодежь воспитывать или гондоны рекламировать…
(Изображая в лицах эту беседу, Таисья добавила, что в наше время одно не исключает другого, а возможно, даже способствует.)
И рыцарь уполз в свой замок зализывать раны после джостры.
– Ну хватит, – убеждала я Таисью. – Он наказан. Видишь, сегодня утром он даже кивнул тебе.
– Кивнул?! – вскидывалась она. – Так вот знай, как со мною связываться: я его уделаю так, что ему кивать будет нечем! Я выведу всех на демонстрацию!