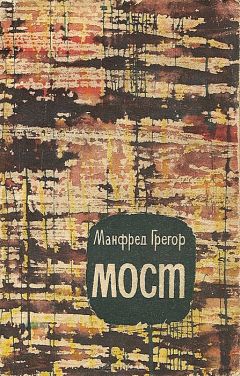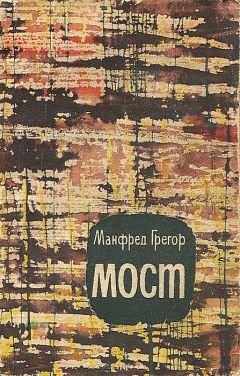Дина Рубина - Коксинель (сборник)
Пошатываясь, я вышла на воздух, и тут на меня чуть не налетела Таисья. Она неслась вперед своей походкой половецкого хана, поигрывая возле бедра невидимой камчой. За ней поспевала группа родителей учащихся консерваториона, человек тридцать.
– Готова?! – крикнула мне Таисья.
– Абсолютно, – пробормотала я. Она ринулась в зал, я – за ней.
Рванув на себя стеклянную дверь, она ворвалась в зал с криком:
– Все на площадь!!
– Что случилось? – спросила я ее.
– Все на демонстрацию!! – тяжело дыша, воскликнула она, делая публике зазывный жест типа «айда!».
– По какому поводу?
– Пробил час! – крикнула она. – Пришло время доказать этому пидору – кто здесь граммофон запускает.
– Тая, ты с ума сошла? – спросила я кротко. – У нас тут концерт легкой классической музыки, Тая.
– Все!! – сказала она. – Лопнула манда, пропали деньги!
И тогда художественный руководитель Бенедикт Белоконь снял клешни с клавиатуры и восторженно закричал своему коллективу:
– Ребята, присоединимся к побратимам! Поможем отстоять!
Хевра из Ехуда хлынула из-за хлипких фанерных кулис, а из-за столиков повалили дружные, раскисшие от самопальных еврейских романсов, от совместного творчества и сладкого вина пенсионеры.
Все они устремились за Таисьей к выходу, а Белоконь, приобняв на ходу ее клешней за плечи, спросил доверительно:
– За что стоим?
– За отделение консерваториона от Матнаса! – яростно и страстно воскликнула она.
– А! – сказал он. – Дело хорошее…
Топоча и выкрикивая что-то на ходу, подпевая скандирующим какие-то ошметки лозунгов артистам, все двинули на городскую площадь.
Я стояла у дверей Матнаса обескураженная и притихшая.
Поодаль, как в пьесе «Вишневый сад», продолжали стучать молотками рабочие, собирающие из щитов сцену для завтрашнего спектакля. В наступивших сумерках мандаринные дольки фонарей наливались изнутри электрическим соком.
Странное ощущение владело мною: меня вдруг покинуло чувство, что я сочиняю эту пьесу, веду на ниточках этих кукол. Пропала магия совпадений, чудесное ощущение нитей, которые ты перебираешь пальцами, прядя повествование.
Я вдруг ощутила себя не автором собственной повести, не хозяином переносного театрика, а всего лишь одним из ее второстепенных персонажей, вдруг осознала ничтожность своих сил, смехотворность своих притязаний.
…Я ведь знала, говорила я себе, ведь с самого начала знала, что ничего хорошего от хевры из Ехуда не дождешься. Из какого странного азарта я все-таки вытащила этих кукол из корзинки на свет Божий, вернее, на свет рампы, под эти фонари, на эту площадь?
Я повернулась и побрела домой.
Бесхозные две строки, где-то когда-то прочитанные или услышанные, крутились у меня в голове: «Ибо тоска – ходить весь год пешком и трогать надоевшую струну…» – неотвязно крутились в голове и означали не что иное, как мою собственную участь…
Возле моста меня догнал Владимир Петрович, взял под руку.
– Ну что ж вы так бежали! – сказал он укоризненно. – Насилу догнал.
– Владимир Петрович, простите меня, если можете, – сказала я, не глядя на старика. – Я не предполагала всего этого безобразия.
– Ничего, – примирительно сказал он. – Видите, а людям понравилось.
– Но ведь им и Дебюсси нравится?
– И Дебюсси, – кивнул он, – и Дебюсси нравится. В этом-то и штука… Перед этим-то, милая, всегда художники руки опускали – перед всеядностью толпы.
Молча мы взбирались по дорожке вверх, к той площадке, с которой открывался распахнутый вид на Иерусалим. И опять, не договариваясь, остановились – так притягивали и не отпускали взгляд эти огни на темных далеких холмах.
– Вдохните глубже этот воздух, – проговорил старик, не шевелясь. – Чувствуете – запах шалфея? Эти блекло-сиреневые цветочки на кустах – шалфей иудейский. А там вон, по склону вниз, растут кусты мирта вперемежку с ладанником белым. Библейский ладан извлекали из этого растения. Вдохните, вдохните глубже, ощутите эту горячую, пахучую тьму гомады…
Вообразите, ведь точно так здесь пахло ночью, когда монахи Кумрана вкладывали свои свитки в огромные кувшины и оставляли в пещерах, тут, в двух шагах от нас. На что они надеялись? Что когда-нибудь мы прочтем их молитвы, почувствуем их гнев, их благость? – Он вздохнул и проговорил с непередаваемой любовью в голосе: – Прекрасно!
– Что прекрасно? – раздраженно спросила я. – Бенедикт Белоконь с его «Еврейской хабанерой»?
– И Бенедикт Белоконь прекрасен, – тихо и внятно сказал он. – Да, и этот воздух, и эти холмы, и Бенедикт Белоконь, который приперся бесплатно «радовать людей», потратился на бензин, наверняка влез в долги, чтобы купить свой подержанный микроавтобус. Он дурак и пошляк, но он прекрасен, как прекрасна жизнь… Любуйтесь жизнью.
Я мрачно отмахнулась. Он помолчал.
Ветер распахивал и запахивал серебро олив на склоне холма. Во тьме чернели пухлые влагалища их дупел. Алмазная крошка огней обсыпала холмы Иерусалима.
– Умейте любоваться жизнью, – повторил он. – Если б вы знали, как нежно пахнет мыло, сваренное из человеческого жира… Такой тонкий и в то же время сильный запах, – продолжал он, – что вот, если б я открыл здесь коробочку – изящную такую керамическую коробочку, – то вы бы за десять шагов почувствовали этот нежный запах…
Я держал коробочку с таким мылом в руках, когда мы освободили Равенсбрюк… И с тех пор не терплю никакого парфюмерного запаха. Для меня это – запах смерти. Понимаете? Ни жена моя, ни дочь никогда, бедные, из-за меня не пользуются духами…
Так что, дружочек, умейте любоваться жизнью, как бы по-идиотски она не выглядела, каким бы потом и пошлостью от нее не разило…
Глава шестнадцатая
Сеньор, я играл на виоле
перед вами в вашем замке;
вы ничего не дали и не расплатились со мной.
Это подлость! Клянусь девой Марией,
я к вам больше не приду;
моя котомка худа, и пуст кошелек мой.
Я проснулась от звонка и несколько мгновений лежала, не понимая – звенит у меня в ушах от дикой головной боли или все-таки это телефон. Часы показывали семь сорок пять – для меня уже время деятельное. Я подняла трубку, цепенея от перекатывающейся боли в левом виске и затылке.
Это была Таисья – победительная и устремленная в будущее.
– Чего мычишь? – спросила она.
– Дождь будет… Домолились…
– У приличных людей голова болит с перепоя, а у тебя – от всяких глупостей, – сказала она и с радостным подъемом стала рассказывать о вчерашней демонстрации. Какая я балда, что не пошла со всеми вместе, лишилась такого зрелища, такого удовольствия!
И так все удачно сложилось: по дороге на городскую площадь к ним присоединялись кучки, толпочки и большие группы праздношатающихся граждан, которые при виде гарцующей Таисьи носом почуяли зрелище и, возможно, добычу (я подумала: вот как шайки разбойничьего сброда присоединялись к воинству Христову во время крестовых походов).
– Слушай, как пригодились твои мудозвоны из Ехуда! – восклицала Таисья, хохоча и захлебываясь от возбуждения. По голосу слышно было, что у нее превосходное настроение. – Они стали петь хором, а этот их долбанутый руководитель дирижировал. Угадай, что они пели!
– «Интернационал», – сказала я, чтоб она отстала.
– Точно! – заорала Таисья.
Я молчала.
– Не может быть… – пробормотала я.
– Почему? Ты же их видела. Так что к муниципалитету подгребли уже очень приличной толпой, ну и, само собой, стали скандировать.
– Что именно? – с любопытством спросила я.
– Ну как – что! «Долой власть Матнаса!», конечно. А твой Белоконь быстренько раздобыл где-то огромный кус картона и жирными фломастерами написал: «Отпусти консерваторион мой!» Глупость, конечно, но, надо признаться, в самую масть. Этот дядечка отлично ладит с толпой. Не удивлюсь, если на ближайших выборах в главари русской партии он одержит сокрушительную победу.
Минут через пять к ним вышел Эли Куниц в своих крагах и мотоциклетной куртке, испещренной «молниями», и спросил Таисью – к чему весь этот шум, когда она могла бы все решить с глазу на глаз в его кабинете. На что Таисья отвечала, что сыта по горло его обещаниями и только воля народа может сдвинуть с мертвой точки ее, в сущности, такое простое дело.
В общем, было страшно весело: как раз в это время рабочие чинили фонтан, и в самый драматический момент он дал вдруг ослепительную пятиметровую струю, залив всю площадь. Мокрые детишки визжали от восторга, толпа ревела. Не говоря уже о том, что старый попугай из зоомагазина вопил, не переставая: «Шрага, не долби мне мозги!» – а сам из последних сил долбил свою жердочку. Короче, мы организовали то самое публичное действо с живописанием плакатов, к которому полгода нас тщетно призывал Альфонсо.