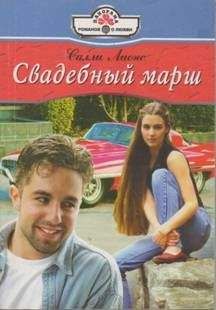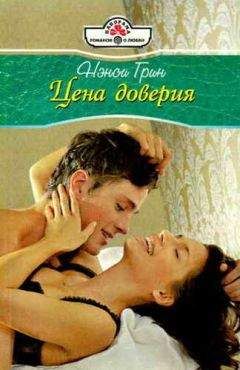Айрис Мердок - Ученик философа
Том, уже одетый, подошел к Эмме и Гектору Гейнсу, которые выяснили, что они оба историки, и уже давно беседовали. Эмма был укутан в длинное пальто с меховым воротником и шарф Тринити-колледжа — то и другое досталось ему от отца. Запах пальто угрожающе смешивался с запахом материнской пудры от только что полученного письма, которое Эмма сунул в карман, выходя из дому. Сейчас на улице было слишком холодно и запахи не ощущались. Гектор уже не изображал персонажа déjeuner sur l'herbe, а стоял в плавках, полный отчаянной решимости продемонстрировать Антее свою неплохую фигуру (он получил Синюю награду Кембриджа[99] по регби; на груди у него росла рыжая курчавая шерсть). Антея, однако, не шла. Он сварился докрасна в пароварках, но не желал показывать, что плавает не очень хорошо. Сейчас он, дрожа от холода, беспокойно оглядывался. Эмма увел разговор со слишком чувствительной темы, о которой зашла речь из-за его акцента, — истории Ирландии XIX века. Теперь они обсуждали «Торжество Афродиты».
— Эй, привет, вы друг друга нашли, очень хорошо.
— Он мне рассказал много нового о связях между Пёрселлом и Геем[100],— сказал Гектор Тому.
— Как твой маскарад, Гектор?
— Ужасно. У нас проблемы с хором животных. И еще нам нужен контртенор.
Нога Эммы, пинающая Тома, столкнулась с ногой Тома, пинающей Эмму.
— О, — воскликнул Том, — да ведь их больше не осталось! И вообще, кому может нравиться этот ужасный звук? Помните, что Шейлок говорил про волынку?[101]
— Я сам не очень люблю этот жуткий фальцет, — сказал Гектор, — но музыка его требует. Джонатан Трис говорит, мы можем обойтись тенором.
— Вы замерзли, — сказал Эмма. — Оденьтесь или идите обратно в одну из этих дырок.
— Ну ладно… Том, ты не видел Антею? Нет? Ну ладно, я еще побуду. До свидания. Ирландский вопрос решим как-нибудь в другой раз.
Посиневший от холода, он затрусил прочь.
— Черта с два!
— Вон моя мать идет, — сказал Том.
Подошла жизнерадостная Алекс, тоже одетая.
— Алекс, это мой друг, Эммануэль Скарлет-Тейлор. Эмма, это моя мать.
— Очень приятно познакомиться, — сказала Алекс. — Я слышала про вас замечательные вещи. Надеюсь, вы придете ко мне в гости, пусть Том вас приведет. О, привет, Габриель. Это Габриель, моя невестка. Что случилось?
Красное обветренное лицо Габриель было обрамлено плотно замотанным хлопковым шарфом. Она, расстроенная, под каким-то предлогом сбежала искать своего индуса. Она подумала, что, может быть, рано отчаялась. Может быть, он не ушел из Института. Пошел плавать. Ей пришел в голову библейский стих (любимый стих Ящерки Билля): «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»[102]. Бородатый индус даже был немножко похож на Христа. Ее испытали и нашли очень легкой[103].
— Да, мы знакомы с мистером Тейлором, здравствуйте. Я ищу индуса с бородой, вы такого не видели?
Они не видели.
— Ладно, я побегу… извините… ну, до свидания…
Габриель помчалась дальше, поскальзываясь высокими каблуками на тонком бледно-сером слое снега, к которому до сих пор прибавлялись нерешительно дрейфующие снежинки, похожие на бумажные. Габриель принялась заглядывать в пароварки.
— Моя невестка — очень своеобразный человек, — сказала Алекс. — Мы ее очень любим. Ну что ж, auf widersehen[104].
И, одетая в черные сапоги и шубу, пошла прочь.
— Сделай одолжение, объясни своим родным, что моя фамилия — Скарлет-Тейлор.
— Как тебе моя маман?
— Неплохо выглядит. Что за замечательные вещи ты ей обо мне рассказывал?
— Ничего я не рассказывал. Кажется, ты ей понравился.
— Она не хочет, чтобы ты женился, — сказал Эмма, чей быстрый подозрительный ум схватил эту мысль на лету.
— Кажется, всех страшно занимает моя женитьба.
— Ку-и, ку-и!
— Это моя мать зовет Руби.
— Служанку то есть? Смотри, вон опять та девушка.
Хэтти и Перл, красноносые и измученные погодой, шли к выходу. Температура, только что упавшая еще на градус, действовала на их внешний вид противоположным образом: Перл выглядела лет на сорок, а Хэтти на четырнадцать.
— Ку-и, ку-и!
Явилась Руби с сумкой Алекс.
— Руби, привет, — сказал Том. — Что это за девушки, вон, только что прошли мимо?
— Это малютка мисс Хэрриет Мейнелл и ее горничная. Мне надо бежать.
Эмма расхохотался.
— О господи!
Он сунул руку в карман и нащупал письмо матери. Вытащил его и погрузил лицо в его аромат, продолжая смеяться.
Джордж Маккефри вошел в Эннистонские палаты через маленький восьмиугольный Баптистерий: большие блестящие бронзовые двери преграждали спуск к источнику. Здесь также пролегал кратчайший путь из Променада в Палаты. У ротонды, или Баптистерия, как его чаще называли, было две двери, по одной с каждой стороны, обычно запертые. Иногда из-за каких нибудь работ одну или другую оставляли открытой. Джордж в тот день (во второй половине дня, о котором шла речь выше) обнаружил, что открыты обе двери, так что можно пройти в Палаты не через вестибюль парадного входа, где сидит за конторкой портье. Джордж замешкался в Баптистерии, осматривая большие, усаженные заклепками серебристо-золотые двери, из-за которых всегда просачивался пар. (Его рассеивал установленный на потолке вентилятор.) Джордж потрогал двери. Они были горячие. Он повернул большую латунную ручку и потянул. Двери были заперты. Он бесшумно пошел дальше, в Палаты, и через дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен» попал в главный коридор первого этажа.
В коридоре было тихо, или Джорджу так показалось, пока он стоял, прислушиваясь к стуку сердца. На самом деле здесь фоном звучал бой барабанов — звук горячей воды, вечно извергающейся в ванны-лодки в ванных комнатах всех номеров. Однако при закрытых дверях номеров звук превращался в низкую вибрацию, которую слух скоро переставал различать. Джордж постоял немного, ощущая эту вибрацию, которая, казалось ему, звучала в такт его собственному сердцу и вибрации всего его напряженного существа.
Он прошел немного вперед, бесшумно приминая ногами толстый ворс ковра. Дойдя до двери сорок четвертого номера, он остановился и прислушался. Изнутри доносился только шум воды. Джордж тихо постучал. Ответа не было. Может, его стука не услышали? Постучать погромче? Войти? Он очень осторожно повернул ручку и слегка толкнул дверь. Ничего не случилось, только шум воды стал громче и запах серы сильнее. Джордж приоткрыл дверь чуть пошире и заглянул в комнату. Здесь было светлее, чем в полутемном коридоре, — сюда проникали непрямые лучи солнца, в первый миг, по контрасту, почти ослепительные, несмотря на полузадернутые занавески. Джордж сначала увидел стол, заваленный книгами и бумагами, потом кровать, а на ней — огромное тело философа. Тот спал.
Джордж выдохнул и, оглянувшись на пустой коридор, быстро скользнул в комнату. В ней было довольно шумно, поскольку Розанов оставил открытой дверь ванной. Джордж закрыл внешнюю дверь. Его не слишком удивило ни то, что Розанов оказался у себя, ни то, что он спит. Джон Роберт жил по жесткому расписанию, которое включало в себя работу с раннего утра и допоздна, а также примерно час глубокого сна во второй половине дня. (Розанов утверждал, что этот сон позволяет ему умещать два дня в один.) Сейчас он лежал на спине и храпел. Джордж постоял, прижав руку к сердцу и уставясь на философа. Потом тихо двинулся вперед.
Даже двадцатилетний повеса, к примеру Том Маккефри, приближаясь к полуобнаженному, беспечно расслабленному спящему телу обожаемой им юной девушки (возможно, в образе пастушки), не испытал бы такого возбуждения, какое охватило Джорджа, когда он застал философа спящим. Джон Роберт спал одетым, только расстегнул ворот рубашки и пояс брюк. Он не забрался в постель, но лег поверх одеяла, сбив скомканное белое покрывало вниз примерно на уровень колен. Одна нога без ботинка, в толстом синем шерстяном носке, торчала наружу. Одна рука лежала на груди, другая свесилась через край кровати ладонью вверх, в сторону Джорджа, словно в дружеском жесте. Джордж рассмотрел открытую ладонь. Затем взглянул на лицо спящего. Вид у Джона Роберта был совсем не мирный. Открытые влажные губы, из которых выходил слегка пузырящийся храп, все так же настойчиво выпячивались в привычной царственной moue[105]. Закрытые глаза в ложбинах с темными пятнами словно хмурились. Скулы по-прежнему торчали на дряблом лице, и рытвины по обе стороны большого крючковатого носа походили на яростно пропаханные борозды. На лбу, над которым курчавились седые волосы, еще не начавшие отступать назад, плоть вздымалась розовыми валиками между глубокими морщинами. Грязно-серая щетина покрывала подбородок и толстую, складчатую динозавровую шею. Только подбородок казался слабее, не таким грозно-решительным. Джордж испытал небольшое потрясение, когда понял почему. Джон Роберт вынул вставные челюсти, и они, блестя, выглядывали сейчас из неглубокой белой чашки на тумбочке у кровати.