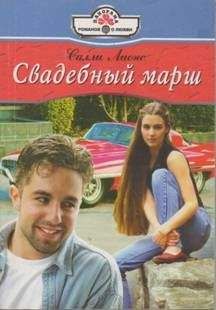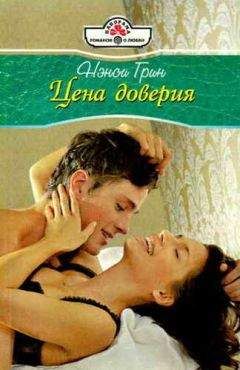Айрис Мердок - Ученик философа
Крохотное, беззащитное существо, которое так легко раздавить. О господи.
— Это не собака, а мягкая игрушка какая-то. Для Адама он и есть игрушка.
— Для Адама всё — игрушки.
— Как вообще такая чепуховина понимает, что она собака? Сними его, он сидит на сыре.
Габриель сняла Зеда с сумки и поставила на пол, где он немедленно запрыгал и затанцевал у ее ног, плавно двигая кругленьким черно-белым тельцем и готовясь запрыгнуть вверх. Габриель подняла его и посадила к себе на колено, где он и устроился, уставившись на Брайана, втихомолку, нахально изо всех сил потешаясь над ним.
— Мы можем остановиться в той маленькой гостинице…
— Я не собираюсь тратиться на гостиницы.
— Тогда, если мы поедем только на день…
— Что толку ехать на день? Половина времени уйдет на дорогу туда и обратно.
— Ничего подобного. Теперь есть шоссе, по нему будет очень быстро. А день у моря — это такой… особенный день… если мы все вместе. Брайан, я тебя очень прошу, не отказывайся. Это наш единственный семейный день, кроме Рождества, а ты же знаешь, как я люблю Рождество.
— А ты знаешь, как я его ненавижу! И Алекс ненавидит; помнишь, как она испортила его в прошлый раз.
— Не злись, мне приходится планировать, потому что больше никто не хочет этим заниматься. Зато когда я все организую, все бывают довольны!
— Ты сама себя обманываешь.
— Том предложил взять палатки и стать лагерем.
— Да неужели!
— Я сделаю бутерброды, Руби поможет, ты же знаешь, как она это любит…
— Ты вечно выдумываешь, что другим что-то нравится, а на самом деле они не такие, как ты!
— Ну и не такие, как ты, потому что тебе ничего никогда не нравится!
— Мне раньше многое нравилось, но оно все куда-то девалось, все хорошее, как мы с тобой танцевали вальс, и thés dansants, помнишь, они были в этом зале, пока все не пошло к чертям.
Габриель растрогалась от этого воспоминания. Она тоже любила старые сентиментальные thés dansants с оркестром из трех человек.
— Милый! И танго, и самбы, и румбы, и медленный фокстрот…
— Нет. Только вальс. Но их уже нет. Нам больше не вальсировать. О господи, обязательно и об этом плакать?
Я не только об этом плачу, подумала Габриель, хотя и об этом тоже. Почему у меня всегда глаза на мокром месте? Брайана это ужасно бесит. Живут ли другие так же, как я, — все время на грани чего-то бесконечно трогательного, важного, в каком-то смысле глубокого… может, это Бог? Нет, для Бога слишком мелко.
Адам сегодня утром расстроился, потому что Габриель уничтожила его «медведя». Это было пятно на кухонном столе, формой напоминающее медведя. Оно каким-то образом сделалось собственностью Адама. Габриель в пылу уборки случайно стерла медведя. Адам совсем как я, подумала Габриель, и все-таки совсем другой. Он обожает разные забавные мелочи, почти невещественные. Для него мир полон таких вещей. Он владеет миром — у него всегда его дрозд поет, его паук сплел паутину в углу. Мысль о погибшем медведе почему-то напомнила, что вчера ей снился Руфус и во сне он был ее сыном. Ей часто снился этот сон, и она про него никому не рассказывала.
И еще что-то было, случилось только что, когда она сидела за столиком в Променаде в ожидании Брайана. Она читала «Эннистон газетт», а напротив сел индиец или пакистанец, худой моложавый бородач, и задал пару незначительных вопросов. Габриель отвечала кратко и продолжала читать. Она не любила разговаривать с незнакомцами. «Агрессор» вскоре ушел. Через несколько минут после его исчезновения Габриель, мучимая укорами совести, отложила газету. Этот человек одинок, он, может быть, приехал в Англию недавно, только что иммигрировал, живет один, ему постоянно дают понять, что он лишний, глядят на него косо, травят. Его банальные вопросы были мольбой о разговоре, о человеческом контакте, улыбке, взгляде. Может быть, он решил, что у нее доброе лицо. А она его так подвела, была немногословна, почти груба. И теперь он ушел, и этот драгоценный момент никогда не повторится. Еще и поэтому слезы навернулись у нее на глаза, когда Брайан вспомнил о thés dansants.
Отец Бернард стоял у длинного окна Променада и глядел на завораживающую игру крохотных снежинок, которые в очень холодном и неподвижном воздухе, казалось, никак не могли решить, куда им лететь — вверх или вниз. По-видимому, некоторые все же добирались до земли, потому что край бассейна был белым и его пятнали перепутанные темные отпечатки босых ног. На глазах у священника Том Маккефри в одних плавках прошел очень близко с той стороны стекла. Он на секунду замер на краю бассейна, напряженный, прямой, наслаждаясь холодом под ногами, холодным касанием воздуха, едва заметным ласковым прикосновением снежинок к теплой коже. Затем, подняв голову и откинув назад волосы, глубоко-глубоко вдохнул воздух и снег, изогнулся всем телом, нырнул в пухлое округлое облако-одеяло бассейна и исчез. Отец Бернард, у которого дыхание сперло в груди, наконец выдохнул. Dans l'onde toi devenue ta jubilation nue.
Священник уже поплавал и ощущал небывалый душевный подъем. Утром, отслужив обедню, он сочинил весьма напыщенное письмо Джону Роберту, сообщая, что исследовал способности мисс Мейнелл и нашел ее хотя и незрелой, но тем не менее удовлетворительно сведущей в современных иностранных языках. Он особо подчеркнул ее похвальное внимание к грамматике. Затем он поставил самую длинную из своих записей Скотта Джоплина и сел напротив длинноухого Гандхары Будды, чей суровый, спокойный, строгий лик с поджатыми губами и опущенными долу задумчивыми глазами (размышляющий) казался священнику намного духовней, чем искаженное лицо распятого. Священник сидел на стуле, выпрямив спину, смежив веки, положив расслабленные руки на колени. Пока его ум занят болтовней на ничтожные темы, он дышит, осознавая движение воздуха, мягко пульсирующее движение воздуха, которое замедляется… замедляется… Темнота, в которой никому не принадлежащая радость тихо испаряется, как распадающаяся ракета. Изменился он? Нет. Это просветление? Нет. Что же это? Безобидное получудо, его частный способ отвлечься, который ничего не стоит.
Теперь, на пути от окна к чайному прилавку, священник остановился у окна, где сидели Брайан и Габриель.
— Доброе утро. Вижу, Омега с вами. Эта крохотная тварь — наглядное доказательство Божьей любви! Каким смирением мы должны преисполниться…
— Почему? — спросил Брайан.
— Такой источник духа в таком крохотном зверьке, такое благое расположение, неистощимо хороший характер, бескорыстная привязанность горит в этих глазах…
— Чушь, — сказал Брайан, — Он абсолютный эгоист, совершенно эгоцентричное животное.
— Господь виден в любом из своих созданий.
— И в этой чашке тоже?
— Да.
— Тогда нечего разводить слюни насчет собак.
— Правда, этот снег прекрасен?
— Омерзителен.
— Что вы скажете про мисс Мейнелл? — спросила Габриель.
— Она простая, как ребенок…
— Простая? То есть у нее шариков не хватает?
— Брайан, ну конечно, он не это хотел сказать.
— Простота — от Бога.
— Ну конечно, достаточно посмотреть вокруг.
— Можно спросить, есть ли новости о Стелле?
— Нет, — ответила Габриель. — Я очень беспокоюсь, она взяла и пропала. Совсем на нее не похоже.
— Не беспокойтесь, — сказал священник— Институт всегда полнится разными ерундовыми слухами. Люди обожают преступления и катастрофы.
Он пошел дальше, к прилавку.
— Что за слухи? — спросила Габриель у Брайана. — Я ничего не знаю.
— Захватывающие. Я даже слышал, как миссис Осмор рассказывала об этом миссис Белтон.
— Но что же?
— Новейшая идея — Джордж прикончил Стеллу. Вопрос только в том, куда он дел труп.
Еще один человек — Уильям Исткот — видел, как нырял Том Маккефри. Уильям, тоже раздетый, стоял на краю бассейна. Он уже поплавал, а сейчас привычно чувствовал, как охлаждается нагретое тело. (Температура воды была 28 °C, а воздуха 2 °C.) Он думал не думая, полуоформленные мысли смешивались с ощущениями: я наслаждался бы этим ощущением холода и тепла, пудинга с мороженым, как говорила Роза. Я наслаждался бы снегом и этой картиной, как Том стоит и потом ныряет. Но теперь не могу. И я завидую Тому, завидую, потому что он молодой, сильный и будет жить, а я нет и умру. Уильяму казалось парадоксальным и ужасным, что сегодня его собственное поджарое, загорелое, почти полностью обнаженное тело стоит так же крепко на ногах и на вид так же прочно и сильно, как всегда. Но все это время оно, как теперь ему известно, носило и носит в себе неумолимый двигатель собственной неизбежной смерти. Он подумал: сказать ли Розанову? Если сказать, это поставит их обоих в неловкое положение. Джон Роберт не любит неудачников, а есть ли неудача окончательней этой?