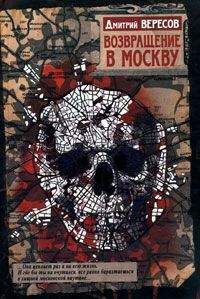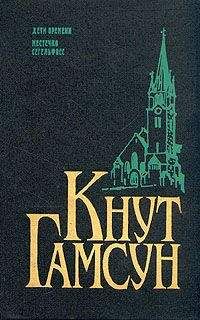Энтомология для слабонервных - Качур Катя
К полудню он уехал в театр. Долгая репетиция почти сразу сменялась спектаклем. Оленька разбирала чемоданы, водрузив их в итоге на антресоли. Разложила на полке салфеточки, глиняные тарелочки и вулканические шкатулки, вставила в рамки лучшие фотографии с Канарских островов. Вытерла пыль с роялей, вымыла пол. Постирала и развесила в ванной плавки и купальники. Поезд уходил в девять тридцать. К восьми она посадила трёх кошек в две переноски, тараканов собрала в небольшую коробку, запихала её, обернув красным полотенцем Gran Canaria, в старый рюкзак, сунула туда свёрнутую рулоном потрёпанную тетрадь Гинзбургов и облачилась в спрятанные от Онежского майку и комбинезон. Перед выходом накинула белое пальто. Но потом подумала и сняла, бросив на вешалку. Так, в летних штанах на лямках, с голыми руками, и вышла на Патрики в пять градусов тепла. До метро было пятнадцать минут. Тётки в темных пуховиках вновь смотрели на неё с удивлением и завистью. Перед «Маяковской» купила в ларьке длинный французский батон и бутылку кефира, которые пришлось зажать под мышкой: в рюкзак они не влезли, руки оттягивали переноски с вопящими кошками. На эскалаторе её изрядно потолкали, и она невольно вспомнила мягкие кресла «линкольна», полгода ждавшего у подъезда.
Спектакль завершился. Онежский в белом костюме, вместе с другими артистами, взявшись за руки, кланялись бушующим зрителям. Женщины, влюблённые, ищущие ответного взгляда, тянули ему цветы, пытались кончиками пальцев дотронуться до его руки, слали воздушные поцелуи. Он широко улыбался, обнажая образцовые зубы, излучал глазами надежду, прижимал ладони к груди в знак искренней благодарности. Наконец занавес закрылся, освободив его от условностей. Улыбка превратилась в гримасу боли, уголки глаз опустились, на переносице собрались трагические морщины. Он попрощался с коллегами и чмокнул в щёку партнёршу, опереточную диву, игравшую Джулию Ламберт. Намётанным глазом мудрая актриса оценила градус надрыва и похлопала его по плечу:
– Главное то, сколько лет эти восторженные глаза из зала будут на тебя ТАК смотреть. Всё остальное – тлен. Забудь…
– Забуду, Татьяна Ивановна, куда денусь…
Около гримёрки ждала сердобольная Клавдия Игнатьевна. Уютная, рыхлая, с ниспадающими ото лба к подбородку морщинами – «мечтательная девочка, завершающая свой жизненный цикл на земле».
– Давай помогу, Олежек, лица на тебе нет, – улыбнулась она.
Онежский жестом пригласил внутрь. Гримёрша сняла с него белый костюм, аккуратно развешивая на плечиках, помогла переодеться, как ребёнку застегнула джинсы, расправила на спине тонкий замшевый бомбер. Мягкими кругленькими ладошками, то и дело меняя куски ваты, смыла толстый слой тонального крема, чёрную подводку с глаз, тушь с ресниц и красно-кирпичную помаду с уставших губ.
– Принесу пирожочков? С капустой, с грибами! – спросила она. – Успела сбегать в буфет перед закрытием.
– Не надо, – Онежский поцеловал её пухлую руку, – идите, Клавдия Игнатьевна, хочу посидеть в тишине. И общий свет погасите…
Гримёрша щёлкнула выключателем и прикрыла дверь с обратной стороны. На небольшой хлопоˊк отреагировала старая железная вешалка, пошатнувшись и тихонечко зазвенев. Онежский сжал от боли зубы и зажмурил глаза. На автомате полез в карман бомбера, чтобы достать носовой платок, но нащупал сложенный бумажный прямоугольник. Буквы, написанные её рукой, как в пьяной лодке, колотились из стороны в сторону. Строки распадались, слова стыдились друг друга и рвались прочь к краям страницы…
Ты был. В обрамлении волн и неба.
Ты был. В устремлении к ночи, в небыль.
Ты был. И под звёздной сказкой этой
Светил, как единый источник света.
Ты был. Но и я была всех живее.
Ты был. И, ни о чём не жалея,
Я так никогда не была беспечна,
И всё казалось мгновенно-вечным.
Ты был. Тебя никогда не будет.
И пусть придут другие люди,
Но ты и в снах моих будешь Летом.
Ты был. Зачем вспоминать об этом?
Главную проблему Гамлета за красивейшего баритона Москвы решила чокнутая провинциальная девочка, поставив глагол «быть» в прошедшее время. Ледяная змейка забралась под футболку и раздвоенным языком жалила, впрыскивая жидкий азот в каждый последующий позвонок. Онежский, парализованный этим холодом, смеялся и рыдал так, что заглушал звуки репетиционных арий, рвущихся из окон на Кузнецкий Мост. Коллеги сгрудились в коридоре, безмолвно сострадая и пожимая плечами. Он знал, что дома уже убрано и пусто. Что в гардеробной валяется белое пальто. Что из-под дивана исчез злосчастный камуфляжный комбинезон, а из аквариума – проклятые тараканы. Что она идёт, полуголая, по мартовской Москве, с дурацким рюкзаком, с кошками в сумках, с тетрадкой дешёвых стихов, с французской булкой и кефиром под мышкой. Идёт за солнцем следом, за одержимым Бурдякиным, по зову безумных прабабок, в чёрт знает какую Страну шмелей. И он следует за ней тенью по Малой Бронной, по Садовому кольцу, ныряет в метро на Маяковке, едет в набитом вагоне до «Белорусской», пересаживается на кольцевую, выскакивает фантомом у Казанского вокзала и, продираясь сквозь толпу с клетчатыми баулами, догоняет, прижимает её к груди. Они кусают наперебой хрусткую булку, запивают кефиром, вытирая белые усы. Поезда трогаются с путей, таблички с названиями городов проплывают мимо, а они стоят на перроне, провожая самое жаркое, самое длинное лето в их жизни. Ты был…
* * *
Оленька впервые пришла к отходу поезда заранее. Отстояла очередь перед тамбуром, показала проводнице паспорт, пропихнулась по забитому коридору к четвёртому купе. Дверь была закрыта. Она поставила сумки с кошками на пол и дёрнула ручку. В распахнувшемся пространстве, жамкая ногами сбитый коврик на полу, взасос целовалась пара. Оленька буркнула «извините» и протиснулась к своей полке, водрузив на неё переноски и спустив с плеча рюкзак. В ответ пара нехотя расцепила объятия и присела на соседнее место. Оленька намеренно не смотрела им в лица, запустив руку в сумки и поправляя подстилки орущим кошкам.
– Гинзбург! – услышала она родной голос. – Твою ж мать! Это ты, стерва?
Оленька подняла голову, дёрнулась, в изумлении открыла рот и тут же прижала к нему ладони. Перед ней сидела Мирей Матье в белой норковой шубке и молочных сапожках. Рядом, холеный, модный, в элегантной тонкой дублёнке ёрзал Игорь.
– Опа-на! – задохнулась Оленька. – Какие люди!
Они с Линой вскочили, вцепились друг в друга, расцеловавшись, и зашлись истерическим смехом. Игорь, глядя на девиц, нервно хлопал себя по коленям и качал головой.
– Он, чё, тоже с тобой? – изумилась Оленька, кивая на пианиста.
– Нет, провожает. Он же женат, помнишь? – отпустила наконец её плечи Перельман. – Кстати, благодаря тебе мы с Игорем провели эти полгода вместе. Прекрасные, незабываемые полгода…
– Вот ты ж дрянь, а кто мне изукрасил лицо? – возмутилась Гинзбург. – Представляешь, – обратилась она к музыканту, – Линка драла меня когтями, как кошка!
– Ну-ну, не прибедняйся, хищница, – хмыкнул Игорь, – уверен, тот, с кем ты всё это время играла партию, остался в дураках, голым.
Оленька, опустив голову, поперхнулась. Слёзы предательски подкатили к глазам. Она быстро заморгала, пытаясь не выдать саднящей боли. Матюгальник над столом прокашлялся и объявил, что поезд отправляется. Красная лицом проводница бегала по купе и выгоняла провожающих. Игорь ещё раз припал к губам Лины и рванул в открытую дверь. Через минуту он оказался по ту сторону окна, Перельман посылала ему воздушные поцелуи, Гинзбург сжала кулак в жесте «но пасаран». Перрон тронулся, пианист бежал за поездом, касаясь рукой стекла, так долго, как это позволяла платформа… Москва, мартовская, вечерняя, огненная, провожала пришельцев равнодушно, латая любовью лишь сердца тех, кто остался с ней – в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии…