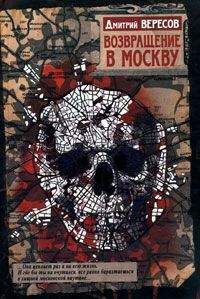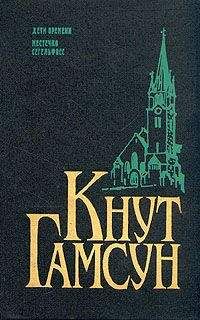Энтомология для слабонервных - Качур Катя
– Кошка! – вышла из оцепенения Оленька и, сунув ноги в кроссовки, выскочила за дверь.
Через пять минут она и вправду вернулась с рыжей грязной кошкой на руках. Прошла в кухню, открыла холодильник, достала молоко и фаршированную рыбу, заказанную из ресторана. Рыбу выложила в дорогую пиалу из тонкого фарфора и опустила на пол. Дрожащая кошка, хрипя и подвывая, стала рвать её на куски. Пока Оленька наливала в низкую хрустальную вазочку молоко, Онежский, цепенея, наблюдал за её действиями. Он смыл-таки очередную маску и стал похож на себя, живого.
– Оля, ты свихнулась? – спросил он с каменным лицом. – Ничего, что это мой дом, моя посуда, моя кухня?
– Таня, готовь ванну с густой пеной и большое полотенце, – не обращая на него внимания, крикнула домработнице Гинзбург, – сейчас будем купать зверя!
– Оля, я с тобой разговариваю? – повысил голос Онежский.
– Да, Олег, я тебя слышу, – тихо произнесла Оленька. – Завтра ни меня, ни кошки здесь не будет.
– Я не об этом! – Голос певца задрожал, он притянул к себе Оленьку с рыбно-молочными руками. – Мы вызовем лучшего ветеринара, мы купим самой дорогой еды, эта кошка будет спать в нашей постели! Только не говори таких слов!
Завтрак откладывался до обеда. Оленька, Таня и Онежский, изодранные в клочья, два часа безуспешно пытались поместить в пенную воду замызганную бестию. Кошка демонически орала, будто её пытали огнём, и, вырвавшись, мокрой крысой носилась по дому, оставляя на полу грязные мыльные следы. Наконец Онежский отловил её шёлковым одеялом и, завернув в рулон, выпустил в ванну. Таня фиксировала кошку поперёк живота, «бог» оперетты держал ей лапы, Оленька намыливала чумазую морду и тощий зад.
– Рыжая сволочь! – кричала в истерике домработница, когда лапы вырывались и когтями срывали с неё кожу. – Что ж ты не сдохла на улице?
– Жизнь – не только твоя привилегия, Таня, – тихо отзывалась Оленька, вытирая кошку пушистым полотенцем. – Когда-нибудь, когда ты станешь подыхать на улице, тебя тоже спасут неизвестные люди. Не ради корысти. А просто из человеческого милосердия.
(К слову, спустя пять лет, безработная Таня упала посреди московской подворотни в голодный обморок и, ударившись о железную урну, два часа лежала без сознания на январской земле. Её увидела старушка, выцветшая, сухая, вызвала скорую помощь и ещё час, пока машина ехала, сидела рядом и держала Танину голову на своих коленях. Потом, много лет позже, они коротали вместе старость и вспоминали «лихие» девяностые, где от роскоши до нищеты было одно короткое замыкание. И Таня, забыв уже сколько десятков раз, рассказывала историю любви её богатого поющего хозяина к безумной девке из провинции, чокнутой, взбалмошной, ходившей по квартире голой и собиравшей кошек по всем подворотням.)
В этот день обедали на бегу, Онежский опаздывал на репетицию, переходящую в спектакль. Не жуя, проглотив пару яиц «в мешочек», он натягивал брюки и вытирал белым полотенцем окровавленные до локтя руки. В театре к выходу его готовила гримёрша Клавдия Игнатьевна – бессменный врачеватель актёрских душ, знавшая о жёнах и любовницах каждого все подробности и нюансы. Увидев на любимчике царапины шириной с верёвку для повешения, пожилая женщина покачала головой.
– Олежик, ты совсем обезумел от своей любви, – сказала она, тонируя кремом его холеную кожу. – Она всё равно уйдёт, твоя Оленька. Таких не удержишь. Да и надо ли? Разве одна она на свете?
– Одна, Клавдия Игнатьевна. – Онежский смотрел в зазеркалье трюмо стеклянными глазами. – В том-то и дело, что одна.
* * *
Той же ночью с Оленькой состоялся серьёзный разговор. Она плакала, что живёт не своей жизнью, что соскучилась по родителям, по учёбе, по бездомным кошкам, по бескрылым комарам, по Перельманам, включая Линку-дуру, по Бурдякину, наконец…
– Господи! – взмолился Онежский. – Какие проблемы? К маме с папой поедем завтра же, с Линкой помиришься, кошек соберём по всей Москве и окрестностям, экспедицию я организую тебе сам, бескрылых комаров окрылим, учёбу восстановим! Но вот Бурдякин! Ну это же чудо чудовищное! Его даже аленький цветочек не спасёт! Он не превратится в принца, Оля-а-а-а!
– Он хороший, – спорила Гинзбург.
– Я оплачу ему экипировку и снаряжение. Я пробью в Министерстве науки все его проекты! Только пусть оставит тебя в покое! – Певец покрывал поцелуями её руки, колени, лопатки. – Ну сравни: Ольга Онежская и Ольга Бурдякина. Это же две ветви развития, две судьбы, два пути – эволюция и деградация, благословение и проклятие!
Оленька вырывалась, царапалась, как кошка, заворачивалась в простыню и садилась за стол, уткнувшись в свою истрёпанную тетрадь. Онежский уже знал: в таком состоянии любимую лучше не трогать. Стихи её прабабки, бабки, матери были каким-то заговором, заклинанием, заклятием. Иногда она читала ему эти странные строки, и каждый раз Олег спрашивал:
– А это кто написал? Ты? Ульяна? Бэлла? Лея? – Он выучил их имена наизусть, а способ выражать мысли у всех был идентичным.
– Неважно, – отвечала она. – Кто-то из нас, жён, матерей, дочерей Гинзбургов. Это наша Библия. Наша Тора. Наш Коран.
Онежский смеялся. «Священное писание» Гинзбургов казалось не чем иным, как наспех собранными в ладошки девичьими слезами. По незнанию складывалось впечатление, что у каждой «поэтессы» – десятки любовников, сотни приключений, тысячи незаконных поцелуев. Но потом Онежский понял, нет, почувствовал: все они – просто фантазёрки. И кто их возлюбленные – реальные мужчины или мифические персонажи: лесные духи, нептуны, цари ветров, – можно только догадываться…
Мой дом, стоящий средь дубов,
Сколоченный из грубых брёвен,
Вдыхает запах погребов
И окна с белым снегом вровень.
Кукушка в стареньких часах
Вести счёт времени устала.
Луна повисла в небесах,
Ей до земного дела мало.
А в самоваре стынет чай.
Я приглашу с собой кукушку,
И мы как будто невзначай
Устроим зимнюю пирушку.
Она зевнёт: «У этих врат
Ты ждёшь её многие лета.
А он уйдёт в один закат
И распрощается с рассветом.
Но если время обмануть,
То эта ночь продлится вечность.
А ожиданье что тянуть?
Заменим мигом бесконечность.
И сгинет тягость пустоты».
Да, моя птичка, жалко только,
Что правишь временем не ты,
А кто-то властный и жестокий.
Твоё охрипшее ку-ку
Не первый маятник в природе.
Давай попьём лучше чайку
И поболтаем о погоде…
Канарский красный адмирал
Шёл месяц агонии. Оленька делала всё, чтобы сбежать. Онежский – всё, чтобы этого не случилось. Отпустить её было равносильно смерти. Он нервничал, срывался на репетициях, проваливал спектакли. Поклонники рыдали, завистники от радости потирали ладони. Благодаря гримёрше Клавдии Игнатьевне весь театр оказался в курсе безумной страсти лирического баритона. В разгар сезона главный режиссёр хлопнул его по плечу и сказал:
– Отпускаю тебя на две недели. Ровно две недели. Охлаждай мозги и возвращайся трезвым. Иначе потеряешь всё. Верь – ни одна женщина этого не стоит.
Онежский через друзей взял тур на Канарские острова и, раскладывая веером перед Оленькой ваучеры с билетами, подвёл итог:
– На эти две недели мы забываем обо всех и обо всём. Только ты, я и океан. А после – делай, что хочешь.
Оленька прыгала от радости, целовала Онежского с утра до ночи, сложила в чемодан четырнадцать красивейших платьев, десять пар босоножек, пять купальников. Съездила в Ленинскую библиотеку и выписала из справочника всех насекомых-эндемиков Канарских островов.
– Представляешь, – сказала она за ужином Олегу, – там обитает сама Ванесса индика!
– Это какая-то местная певица? – спросил он, катая капсулы брюссельской капусты по тарелке.
– Нееет, – засмеялась Оленька, – это бабочка, которая живёт только на данных островах. Эндемик! Канарский красный адмирал!