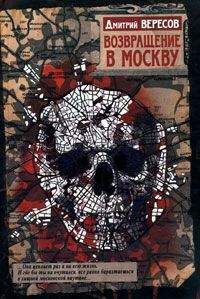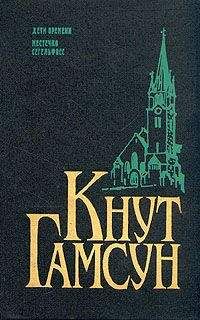Энтомология для слабонервных - Качур Катя
Возле стола нарезали круги уже три попрошайки-кошки. В аквариуме на подоконнике поверх куска бревна копошилось десять мадагаскарских тараканов, выселенных из лаборатории какого-то умершего зоолога. Онежский, стараясь не смотреть ни на тех ни на других, потрепал Оленьку по щеке.
– Это ты мой красный адмирал, – вздохнул певец. – Эндемик квартиры на Патриках.
– Ну что ты! – чмокнула его руку Оленька. – Я – космополит. Обитаю везде!
– Чем разбиваешь мне сердце. – Он встал, споткнулся босой ногой об кошек, тут же ответно был оцарапан, матюгнулся и ушёл в свою комнату.
* * *
Из самолёта Канарские острова сначала казались рассыпанными по синему ковру неравными бусинами. Затем стремительно разбухая, размывая контуры, они превратились в глыбу, похожую на окаменевшего крокодила – Тенерифе. Из-за облаков воронкой зовущего рта торчал кратер вулкана Тейде. Чуть ниже, на разделе суши и воды, нарисовались белые и красные отели с голубыми глазами бассейнов, обрамлённых колючей зеленью и извилистыми серыми дорожками. Каменный городок прямо на берегу Атлантического океана напоминал сказочный замок. Пока Онежский разгружался в отдельно стоящем номере внутри пальмовой рощицы, Оленька, по-щенячьи скуля от радости, собирала диковинных жуков с коры высоченных драцен.
– Вот видишь, – сказал он, когда она протянула ему полные ладоши, кишащие крыльями и лапами, – необязательно переться в Антарктиду с Бурдякиным, чтобы быть счастливым.
– Ни слова о Бурдякине, – прервала его Оленька долгим влажным поцелуем. – Четырнадцать дней только я, ты, океан и эндемики Канарских островов.
* * *
Десять отщёлканных плёнок, триста шестьдесят цветных фотографий навсегда остались у Онежского. Они – влюблённые, они – неразлучные, они – выточенные безупречной молодостью, идеальные, тонкие, звенящие. На фоне ультрамариновой океанской волны (вот откуда зачерпнули цвет её глаза), на фоне скал, на фоне пальм, на фоне танцующих косаток в местном зоопарке. Он, раскинув руки, поёт на весь земной шар арию «Цыганского барона» Штрауса. Она, запрокинув голову от счастья, держит в ладонях огромную чёрную бабочку с огненной полоской на всех четырёх крыльях – Канарского красного адмирала. К счастью, смотритель Лоро-парка – крупнейшего обиталища попугаев и всякой другой живности находит для неё мёртвую особь, чтобы она могла увезти её с собой в Россию.
– Изучать, не убивая, – мой принцип, знаешь? – шепчет Оленька, целуя Онежского в шрамчик на левом виске.
– Зато убивая, любить, – подхватывает певец, глядя на редкие розовые облака.
– Ну не раздувай кадило, – смеётся она и тут же нарушает уговор: – Я привезу эту бабочку Бурдякину, он будет счастлив.
Триста шестьдесят цветных фотографий, и на каждой – призрак Бурдякина. Незримо, неосязаемо, неизбежно.
– А если я найму убийцу и Бурдякина сотрут с лица земли? – Он держит её подбородок и, не улыбаясь, смотрит в глаза.
– Я отправлюсь по тем тропам, которые мечтал исследовать он, – серьёзно говорит Оленька. – Я проеду все Шмелеёбски мира, где он не побывал, и умру в той Стране шмелей, куда он стремился.
– А я?
– А ты останешься самым долгим, самым красочным летом в моей жизни. С августа по март.
– Давай продлим это лето ещё на пятьдесят сезонов! – Онежский убирает прядь её волос, прилипшую к капельке крема на щеке.
– Смотри. – Оленька вытягивает руки, ладонями вверх. Под загорелой кожей голубоватыми ручейками от локтя к запястью стекаются чуть заметные вены. – В этих сосудах струится кровь моих прабабок. Баболды. Леи. Моих бабок. Марии. Бэллы. Они были упёртыми и сумасбродными. Они не оставят меня в покое. Я всю жизнь буду с кем-то бороться, куда-то идти. Я не смогу быть в тепле, под твоим крылом. И ты ничего не изменишь.
– К чёрту твоих прабабок. К чёрту всех старых, вонючих бабок на Земле! Поклоняться им – закапывать свою молодость, своё будущее. – Онежский садится плавками на мокрый песок, загребает горсть и швыряет в океан, подобострастно лижущий ноги.
– Никогда, слышишь, никогда не говори так о бабках. – Оленька опускается рядом на колени, смотрит на горизонт, позволяя волнам вобрать цвет её глаз. – Старые бабки – это мечтательные девочки, завершающие свой жизненный цикл на земле. Не тебе их трогать и не тебе судить!
Крыть нечем. На трёхстах шестидесяти фотографиях ещё и призраки всех её бабок.
После обеда – променад на местный рынок. Оленька покупает кучу ерунды. Шкатулку из вулканической лавы Тейде, набор кружевных салфеток, глиняные тарелочки с экзотическими цветами, огромное красное полотенце с Микки-Маусом, сидящим в шезлонге напротив океана. Внизу по кайме написано Gran Canaria[47]. Почему Гран-Канария, если они на Тенерифе? Неважно. Но именно с этим полотенцем, летящим за ветром, Онежский фотографирует её на оставшуюся десятую плёнку. Именно это полотенце (вот ведь судьба тряпки!) пройдет с Оленькой по десяткам Шмелеёбсков. Именно им, уже потрёпанным, мягоньким, она будет вытирать своих детей. Именно его, выцветшее, с оборванной каймой, заберёт однажды старшая дочь, в двадцать лет демонстративно уйдя из дома. «Перебесится, вернётся, – скажет старенькая, мудрая бабка Зоя, – себя с Линкой вспомните в свой двадцатник!» – добавит она. Но это потом. А сейчас самолёт оставляет под собой огромную сушу, которая вмиг превращается в каменного крокодила, затем в горсть разбросанных по синему ковру бусин, а потом и вовсе исчезает под облаками. Через семь часов пятнадцать минут, с затёкшими ногами, с тяжёлым плечом, на котором навеки (как в окаменелой раковине) отпечаталось её маленькое ушко и растрёпанные волосы, Онежский смотрит на совершенно другой океан – московских огней. Распластанная водомерка с пузом из кольцевых дорог и длинными лапами освещённых шоссе молниеносно приближается, увеличивается и фокусируется на мерцающем пупке Шереметьева. Шасси опускаются, колеса цепляют землю, и судно, выпавшее из ладоней Бога на московский бетон, нервно трясётся, удивляясь очередному спасению.
За солнцем следом
Неделю в квартире лежали раскрытые чемоданы. Груды тарелочек, магнитиков валялись рядом на полу, полотенце и высохшие в пути купальники источали запах волн, песка и грусти. Кошки, порученные на время отъезда Тане, бродили вокруг непонятных предметов, пытаясь вытоптать себе внутри чемоданов уютное гнездо. Мадагаскарские тараканы смотрели на беспорядок сквозь аквариумное стекло, озабоченно шевеля усами. Онежский почти каждый день играл спектакли. И каждый день, снимая с себя грим после выступления, молился вернуться в тот же милый послеотпускной бардак. Ему не хотелось чистоты, поэтому домработницу Таню отправили на время отдохнуть. Вечерами он находил Оленьку перебирающей фотографии (их отпечатали на следующий после приезда день) или сидящей за «бабкиной» тетрадкой. Всякий раз выдыхал, когда её видел, и сглатывал ком, подкатывающий к горлу. Они не говорили о будущем, даже о ближайшем. Они просто лежали голышом на шёлковом одеяле, держались за руки, вдыхали запах друг друга. Оленька распевала детские песенки, звонко, по-мультяшному, мимо нот. Онежский подхватывал изумительным баритоном и вёл мелодию, как маленького ребёнка ведёт рука отца.
Спроси у жизни строгой,
Какой идти дорогой?
Куда по свету белому
Направиться с утра?
Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра[48].
В том, что она уйдёт «за солнцем следом», он не сомневался. Март, тёплый, улыбчивый, подходил к экватору, снег, перемешанный с грязью, хлюпал под ботинками, люди поднимали бледные носы к небу и позволяли окропить себя веснушками. Загорелая не по сезону Оленька гуляла по Патриаршим, цветом кожи и непрактичностью белого итальянского пальто намекая на высшее сословие и вызывая зависть женщин в тёмных пуховиках с «Лужи». Через две недели Бурдякин уезжал в Антарктику за бескрылыми комарами. Она представляла, как он, сопя, собирает рюкзак, как сует туда колючий верблюжий свитер, как скатывает вонючий, непростиранный спальный мешок, как запасается ручками, которые не застывают на морозе, чтобы вести ежесекундные наблюдения. А Онежский в это время пел партию Тома Феннела в премьере «Джулия Ламберт» по мотивам Сомерсета Моэма. И Оленька также представляла, как мучительно ему, сценическому молодому любовнику стареющей актрисы, играть в жизни совершенно противоположную роль. Оба этих мужчины вызывали в ней щемящую нежность. Но выбор был сделан. Вечером она вырвала из тетради Леи исписанный листок и положила Олегу в карман привычного замшевого бомбера. Онежский, вымотанный ролью, вернулся, не ужиная, лёг в кровать и прижал любимую к груди. Оленька быстро заснула. Сердце её стучало ровно, как у человека, который всё решил. Его же сердце то вытягивало нитку кардиограммы в пик Эвереста, то, напротив, замирало пересохшей, безжизненной океанской впадиной. Как у человека, за которого решили, не спросив.