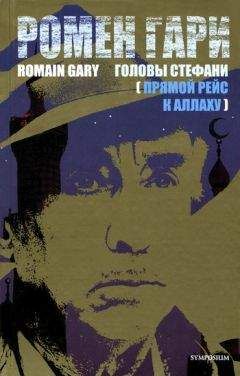Стефани Цвейг - Нигде в Африке
— Грешек, — засмеялся он, положив письмо в гамак и внимательно наблюдая, как тонкий конверт качается там, будто один из тех маленьких корабликов, которые он видел в молодости в Кисуму. — Грешек, — повторил он, заставив голос тоже раскачиваться.
— Йозеф, у него получилось, — ликовал Вальтер, и Регина только теперь заметила, что слезы у него уже бегут по подбородку. — Он спасся. Он не забыл меня. Ты хоть знаешь вообще, кто такой Грешек?
— Грешек против Краузе, — обрадовалась Регина.
В детстве она думала, что это предложение — самое большое волшебство в мире. Ей только нужно было произнести его, и отец уже смеялся. Это была чудесная игра, но однажды до нее дошло, что отец, смеясь, выглядел как побитая собака. После этого открытия она зарыла три волшебных слова, смысла которых все равно не понимала, в своей голове.
— Я забыла, — смущенно добавила она, — что это значит. Но ты всегда говорил так в Ронгае. Грешек против Краузе.
— Наверно, твои учителя не такие уж глупые. Ты вроде бы действительно умный ребенок.
Похвала нежно и успокаивающе пощекотала Регинины уши. Она усердно думала, как бы ей из только что посеянных аплодисментов собрать большой урожай славы, не показавшись при этом тщеславной.
— Он, — наконец вспомнила она, — доехал с тобой до Рима, когда тебе пришлось уехать с родины.
— До Генуи, в Риме нет порта. И чему вас учат в школе?
Вальтер протянул Регине письмо. Она увидела, что его рука дрожит, и поняла, что он ожидал от нее такого же волнения, которое сжигало его собственное тело. Но, увидев тонкие буковки с петлями и острыми концами, похожие на письмо индейцев майя, которое она видела недавно в одной книжке, девочка не смогла вовремя проглотить смех.
— Ты тоже так писал, когда был немцем? — захихикала она.
— Я и сейчас немец.
— Да она же не умеет читать готический шрифт, — отругала Вальтера Йеттель, смахнув со лба Регины смущение. Ее рука была горячей, лицо пылало, а шарик в животе катался с одной стороны на другую. — Бэби тоже волнуется, Регина, — засмеялась она. — Он пинается как сумасшедший, с тех пор как пришло письмо. Господи, кто бы мог подумать, что когда-нибудь я так разволнуюсь из-за письма Грешека. Ты даже не представляешь себе, какой он был странный тип. Но один из немногих порядочных людей в Леобшютце. Грешека мне не в чем упрекнуть. Он даже послал к нам свою Грету, чтобы она помогла укладывать чемоданы. У меня ведь голова кругом шла. Я никогда не забуду того добра, что он мне сделал.
Погрузившись в прошлое, которое благодаря одному-единственному письму снова стало настоящим, Вальтер с Йеттель ушли в тот мир, где места хватало только для них двоих. Они сидели на диване, тесно прижавшись друг к другу, держась за руки, называя имена, вздыхая и упиваясь тоской. Они и тогда не разняли рук, когда начали спорить, была ли лавка у Грешека на Йегерндорферштрассе, а квартира — на Тропауэрштрассе, или наоборот. Вальтер не мог убедить Йеттель, а она — его, но голоса их оставались нежными и радостными.
Наконец они сошлись на том, что, по крайней мере, у доктора Мюллера практика была на Тропауэрштрассе. Дружеские огоньки хорошего настроения в течение нескольких опасных секунд грозили превратиться в обычный костер незабытых оскорблений, и как раз из-за доктора Мюллера. Йеттель утверждала, что он виноват в ее мастите, развившемся после рождения Регины, а Вальтер раздраженно возражал:
— Да ты ему не оставила шанса, немедленно пригласив доктора из Ратибора. Мне до сих пор перед ним неудобно. Мюллер, в конце концов, был со мной в одном студенческом союзе.
Регина боялась дышать. Она знала, что из-за доктора Мюллера ее родители могли так же быстро начать войну, как масаи — из-за украденной коровы. Но сейчас с облегчением заметила, что на этот раз в ход идут стрелы с неотравленными наконечниками. Она давно находила этот бой не лишенным приятности, и он даже стал увлекательным, когда Вальтер с Йеттель завели дискуссию на предмет, стоит ли доставать последнюю бутылку вина из Зорау, для чего они все еще искали особый повод. Йеттель была за, а Вальтер против, но потом Йеттель поменяла свою точку зрения на противоположную, и Вальтер тоже. Не впустив пока в комнату злобных чувств, они вдруг одновременно сказали:
— Подождем немного, может, будет повод получше.
Овуора послали на кухню варить кофе. Он принес его в высоком белом кофейнике с розами на крышке, прищурив при этом глаз, что всегда означало у него, что он в курсе таких вещей, говорить о которых не вправе. Уже когда бвана и мемсахиб обрадовались, словно дети, взглянув на письмо, он поставил тесто для маленьких булочек, которые только в его руках превращались в круглых сыновей жирной луны.
Мемсахиб не забыла удивиться, когда он внес в комнату тарелку с горячими булочками, а бвана, вместо того чтобы произнести «сенте сана», быстро замигав, сказал:
— Идем, Овуор, сейчас мы прочтем мемсахиб кидого письмо.
Сытый от чести, согревающей его живот, так что и есть было не нужно, а еще больше — наполняющей теплом его голову, Овуор уселся в гамак. Он обхватил колени, певуче сказал «Грешек» и при последнем луче солнца накормил свои уши смехом бваны, лицо у которого стало мягким, как мех молодой газели.
«Дорогой господин доктор, — прочитал Вальтер, — я даже не знаю, живы ли Вы. В Леобшютце рассказывали, что Вас съел лев. Но я в это никогда до конца не верил. Господь ведь не стал бы спасать такого человека, как Вы, чтобы его потом съел лев. Я пережил войну. Грете тоже. Но из Леобшютца нам пришлось уносить ноги. Поляки дали нам на это одни сутки. Они были еще хуже русских. Теперь мы живем в Марке. Это ужасная деревня в Гарце. Еще меньше Хеннервитца. Местные называют нас „польским отродьем“ и думают, что из-за нас проиграли войну. У нас не хватает еды, но ее все-таки больше, чем у других, потому что мы и работаем больше. Мы же все потеряли и хотим снова чего-то добиться. Вот местные и злятся. Вы же знаете Вашего Грешека. Грете собирает лом, а я его продаю. Помните, как Вы раньше говорили: „Грешек, Вы ведете себя непорядочно по отношению к Грете“. Так я на ней женился во время переезда и теперь очень этому рад.
До начала проклятой войны я часто наезжал в Зорау и ночью приносил Вашему батюшке и сестрице продукты. Дела у них были совсем плохи. Грете каждое воскресенье молилась за них в церкви. Я не мог. Если Господь все видел и допустил это, значит, Он и молитвы не слышал. Господина Бахараха штурмовики избили на улице и увели. Вскоре после Вашего отъезда из Бреслау. И больше мы о нем ничего не слышали.
Надеюсь, это письмо дойдет до Африки. Я достал одному английскому солдату стальную каску. Они все за такими охотятся. Этот солдат немного говорил по-немецки и пообещал мне послать это письмо Вам. Но кто его знает, сдержит ли он слово. Нам пока не разрешено посылать почту.