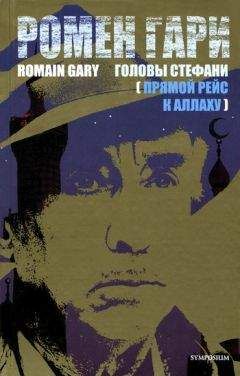Стефани Цвейг - Нигде в Африке
Исключения делались только для тех, чьи матери тоже учились в этом интернате или чьи отцы показали себя щедрыми спонсорами. Такие меры помогали сохранять баланс, столь высоко ценимый приверженцами традиций. Это решение, позволявшее учитывать новую данность и при этом не терять из виду квинтэссенцию консервативного элемента общества, считалось у посвященных весьма дипломатичным и практичным.
— Странно, — говаривала мисс Скотт с бесстрашной громогласностью, вызывавшей восхищение у коллег, — но именно беженцы имеют склонность скучиваться в городе, и именно поэтому об их поселении в интернате и речи идти не может. Вероятно, эти сверхчувствительные бедняги заподозрят дискриминацию, но что тут поделаешь?
Только когда директриса чувствовала себя действительно в безопасности, среди своих, и была уверена, что эти докучливые новомодные недоразумения ей не грозят, она восхищала коллег своей объективной и, что самое приятное, лишенной дешевого сарказма точкой зрения, утверждая, что некоторые люди, к счастью, гораздо более привычны к дискриминации, чем другие.
Регина за те два месяца, что пробыла на положении «дневной» ученицы, не обладающей тем социальным престижем, который в колониальной школе имел больший вес, чем где-либо еще, видела Джанет Скотт только один раз, да и то издалека. Это было во время торжеств в актовом зале, когда праздновали капитуляцию Японии. При соответствующем неприметном поведении, которое в особенности ожидалось от «дневных» учениц, в близком знакомстве с директрисой не было необходимости.
Вынужденная дистанция ни в коей мере не снижала оценку мисс Скотт в глазах Регины. Напротив. Этой директрисе, которая не требовала от нее ничего другого, кроме ограниченного чувства собственного достоинства, к чему девочка и без того уже привыкла, Регина была благодарна за правило, избавившее ее от нового интернатского срока.
Овуор тоже был благодарен незнакомой мисс Скотт за не покидавшее его хорошее настроение. Он теперь каждый день заново наслаждался тем, что шел на рынок с двумя кикапу, а не с одной крошечной сумочкой. Теперь ему не надо было стыдиться слуг богатых мемсахиб, и он мог снова готовить в больших кастрюлях. А главное — теперь он держал уши открытыми для рассказов сразу трех человек, как в лучшие времена на ферме. Вечером, прежде чем принести еду из крохотной кухоньки в комнату с круглым столом и гамаком, в котором спала маленькая мемсахиб, он всегда говорил сытым голосом удачливого охотника:
— Теперь мы больше не усталые люди на сафари.
Как только Регина чувствовала во рту первый кусочек еды, она доставляла упоительную радость голове Овуора и своему сердцу, точно повторяя красивую фразу с той же сытой интонацией. Ночами, в своей узкой кровати-качалке, она шесть дней в неделю выстраивала многословные благодарения великодушному богу Мунго, который после стольких лет тоски и отчаяния наконец-то услышал ее молитвы. Двухчасовая поездка на автобусе в школу и обратно казалась ей легкой, как перышко, платой за уверенность, что ее никогда больше не разлучат с родителями на три месяца.
Еще до восхода солнца, до того, как зажгутся первые лампы в низеньких домиках обслуги, они вместе с отцом садились в переполненный автобус, едущий до Деламар-авеню, чтобы там пересесть в другой набитый битком автобус. Он выезжал за пределы города, и ездили на нем только местные.
Когда Йеттель была на шестом месяце, после многочисленных рапортов на имя капитана Макдоуэлла, у которого в Брайтоне остались четверо детей и тоскливые воспоминания о семейной жизни и у которого всегда не хватало места для солдат в бараках Нгонга, Вальтеру наконец разрешили жить дома.
Он ежедневно ездил на службу, в отдел почты и информации своего подразделения, и возвращался только поздно вечером. Лишь по пятницам он обычно приезжал пораньше и успевал сходить с Региной в синагогу. Когда отец вернулся к этой традиции своего детства, как будто никогда и не отказывался от нее навек, сломанный отчаянием в эмиграции, Регина решила, что ему важно молиться за здоровье младенца в правильном месте.
— Я делаю это ради тебя, — объяснил он ей, — ты должна узнать свои корни. Сейчас самое время.
Она не решилась просить объяснения, которое очень хотела услышать, но на всякий случай прекратила свои ночные беседы с Мунго по пятницам.
Однажды в декабре, в пятницу, Регина услышала взволнованный голос отца, еще не дойдя до лимонов, стоявших за пальмами. Она даже не успела унюхать куриный суп и рыбу в тех номерах, обитатели которых еще не говорили друг с другом исключительно по-английски, но уже решили пожертвовать Шаббатом ради своих мучительных попыток ассимиляции. Такое раннее возвращение отца было, конечно, непривычно, но, в принципе, не противоречило обычным правилам. Так что поначалу у нее не было повода волноваться.
И все-таки она побежала через сад гораздо быстрее и даже решилась вдруг сократить путь, пробежав по муравейнику. Страх оказался быстрее ее ног. Он слишком внезапно упал из головы в желудок, вызвав картины, видеть которые она не хотела. Когда Регина выползла из узкой дыры в разросшейся живой изгороди, то увидела, что дверь в кухню открыта. Она застала родителей в таком состоянии, которое сама не переживала, но о котором знала все. Хотя день еще пылал от жары и каждое движение при такой влажности давалось ее матери тяжелее, чем всегда, Регине показалось, что родители только что танцевали.
На какое-то мгновение она подумала, что повторилось великое чудо Ол’ Джоро Орока и неожиданно приехал Мартин, как тогда, когда он еще был принцем. Ее сердце задыхалось, а фантазия неслась галопом в страну будущего, которая была соткана из золотых звезд с рубиновыми зубцами. И тут она увидела на столе узкий желтый конверт со множеством штемпелей. Регина попробовала прочитать, что было написано между волнистыми линиями, но, хотя каждое слово было английским, смысла ни одного из них она не поняла. Одновременно девочка осознала, что голос ее отца стал высоким, как крик птицы, почувствовавшей на своих крыльях первые капли дождя.
— Пришло первое письмо из Германии, — закричал Вальтер.
Его лицо стало красным, но не от страха, глаза прояснились, и в них запрыгали крошечные искорки.
Письмо было переслано, как военное, оккупационными властями британской зоны и адресовано «Вальтеру Редлиху, фермеру в окрестностях Найроби». Оно было от Грешека. Овуор, который принес почту из администрации отеля и, ничего не подозревая, вызвал ликование, полыхавшее долгие часы, словно пожар в буше, уже мог произносить это имя так хорошо, что язык почти не застревал между зубов.