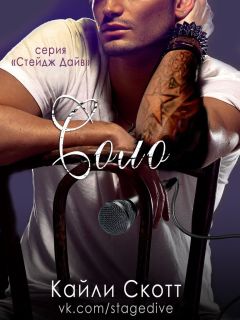Дан Цалка - На пути в Халеб
— Всякий намеченный план хорош, — ответил Франк. — Ты-то как?
Во взгляде Франка читалось, как я выгляжу. Я был небрит — из-за того, что по возвращении из Бордо легкое раздражение высыпало на коже, крылья носа были воспалены и красны, кожа под бровями шелушилась, мой черный свитер был в чистке, поэтому я надел белый, с дырами на локтях и еще в нескольких местах. Глаза покраснели от недосыпания.
— Я в полном порядке.
— Остановился в гостинице?
— В гостинице «Сфинкс» на улице Голанд.
— Понятно, — ответил Франк.
— Весьма живописно…
— Ну да…
— Ладно, не хочу мешать…
— Подожди минутку. Я только принесу тебе карты и книги…
— Жиннет занята чем-то другим, или это ты…
— Нет, просто мне расхотелось ехать. А ты? Ты что, уезжаешь из Парижа? Рассказывать детям об Али-бабе и сокровищах?
(Отец Жиннет заметил как-то, что многие студенты, возвращаясь к себе на родину, рассказывают об успехе, которого достигли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. «Украшают свое прошлое», — сказал он.)
Эту ничего не значащую фразу Франк проговорил со скрытой ненавистью. Я побелел, и на моем лице, как видно, проступила ярость, потому что Франк, который как раз собирался протянуть мне книги, внезапно отступил в испуге и замешательстве.
Он положил книги на комод.
Я улыбнулся, но его ненависть была так сильна, что даже эта жалкая улыбка обманула его.
— Так ты покидаешь Париж? — снова задал он тот же вопрос.
Я взял книги и повернулся, чтобы уйти.
Уходя, я успел заметить его глаза и закушенные губы.
Похоже, было что-то в «дурном глазе» Франка, потому что я по-прежнему держал себя в неприглядном запущенном виде. Я больше не ходил в Сен-Женевьев, и читательский билет в зал периодики оставался девственно-чистым в своей прозрачной корочке. Днем я лежал или спал у себя в номере, а ночью слонялся по улицам, стараясь не попадаться на глаза людям, которые разговаривают сами с собой. Часами бродил я среди боязливых теней и ярких и беззвучных, как в немом кино, светофорных огней, среда одиночества витрин и неведомых предметов, поблескивавших на мостовой.
Однажды ночью я ел кускус у «грязнули», где все еще не закрывали, потому что горластая компания захватила почти все столики и заказывала, одно блюдо за другим, грозя опустошить всю жалкую кухню «грязнули». Я сидел почти напротив двери и видел, как она распахнулась от пинка и вошли двое, низенький придерживал того, кто был повыше и у которого лицо и одежда были в крови.
— Мне требуется помощь — сказал невысокий. Второй приподнял голову. Это был брат Элен. Молодой нотариус из Хонифлёра является в полвторого ночи весь в крови к «грязнуле»? Я подошел к ним и спросил:
— Рене, ты меня помнишь?
Когда невысокий увидел, что есть кому заняться Рене, то со словами: «Я должен бежать!» — испарился прежде, чем мы успели что-либо ответить. С лестницы доносились его торопливые шаги.
Я подвел Рене к раковине и щербатому зеркалу. Он вымыл лицо и руки. У «грязнули» под зеркалом нашлись йод, пластыри, таблетки от поноса (еда у него была сомнительной свежести) и от головной боли — видно, какая-то добрая душа оставила их там на всякий случай.
— Что произошло? — спросил я.
— Ужасно, просто ужасно, — ответил Рене шепотом.
— Хочешь чего-нибудь поесть?
— Да, я голодный.
— Ты ешь кускус? Это все, что они могут предложить.
— Все равно. О Боже!
— Ты ранен?
— Не обращай внимания, — сказал брат Элен негромко и махнул рукой, отметая всякие волнения. Он несколько раз глубоко вздохнул. Я налил ему вина. Наверно, была в моих движениях чрезмерная тщательность, потому что он поднял на мгновение голову и глянул на меня взглядом своей сестры, только у Элен большие радужные кружки казались светлее и лучистей, а у него во взгляде сквозили какое-то равнодушие и отрешенность. Он осмотрелся:
— Ну и местечко!
— Зато дешево и допоздна открыто.
Рене осторожно ел жесткую баранину «грязнули». Он успокоился, и ровное дыхание вернулось к нему. Я не знал, как спросить его об Элен, но был уверен, что он слышит мой вопрос.
Он странно выглядел здесь, единственный прилично одетый посетитель в хорошо сшитом черном костюме и шелковом приглушенно-синем галстуке, с разбитым, смазанным йодом лицом, с пятном запекшейся крови на воротничке.
— Что нового в Хонифлёре?
Рене что-то пробормотал.
— А что слышно у Элен? — принужденно спросил я наконец сдавленным голосом.
— Элен? — переспросил Рене, и я снова увидел ее глаза и веснушки вокруг носа.
Меня внезапно обдало холодом, до того сильным, что я почувствовал, как губы бьет мелкая частая дрожь, а зубы будто оледенели. Я был потрясен и даже прикрыл рот правой рукой.
— Уехала.
— Куда?
— На Пиренеи. Преподавать в какой-то дыре у подножия По. Он тоже учитель.
— А что он?
— Нормально. Здорово играет в теннис.
— И надолго они уехали?
— Они не говорили о сроках. Уехали, и все.
— Значит, думают там остаться?
— Почему бы и нет? Климат, природа… Люди вокруг приятные. Две небольшие зарплаты, но там и жизнь дешева.
— Как он выглядит?
Рене улыбнулся:
— Не знаю.
— Ну хоть примерно…
Он посмотрел на стол, стоявший против нас.
— Вроде того типа с бородкой. Что-то между ним и тобой.
— Он учитель чего?
— Географии и истории.
— Выходит, родители твои остались теперь в одиночестве.
— Родители? У нас нет родителей.
Он зевнул и потер глаза:
— Пора мне спать.
— Я провожу тебя до гостиницы.
Брат Элен согласно кивнул.
У подъезда он поблагодарил меня и нажал кнопку звонка. Через несколько минут дверь отворилась, и ночной сторож, сердитый и бледный, возник на пороге. Рене сунул ему купюру и вошел. Он выглядел гордым и шикарно одетым, может быть, и довольным.
Потери, ненависть Франка, презрение Жиннет язвили меня, как отравленные стрелы. И все же я знал, что Франк ошибся, считая, будто страдания меня подведут. Лишение дружбы Жиннет потрясло меня, но мука лишь расплавила восковые створки, и острая боль перемещалась из ячейки в ячейку, становясь все слабее, по мере того как умалялось мое тело. Тождество боли и наслаждения, на котором зиждилась моя страсть к музыке, восторжествовало. Требовалось лишь время, чтобы эти ощущения обернулись действием. А уж отступать и исчезать я был мастер.
Две недели спустя я жил в красивой комнате в Латинском квартале. Офорт Жана Батиста Тьеполо — группа молодых дам и господ у открытой могилы — висел над рабочим столом. На какое-то время я сделался чрезвычайно осторожен. Всякий, кого я встречал, виделся мне идущим по своему собственному пути, и ощущение самодостаточности любого человека мешало мне даже заговорить с ним; мысли о прежнем любовнике каждой встреченной мною женщины сковывали мои движения. Немое сочувствие к миру парализовало меня. Похоже, и вправду есть что-то в этом возрасте — когда тебе двадцать семь.
Примечания
1
Оценки Честертона применимы и к литературе на иврите, см., напр., в переводах на русский язык хрестоматию: Ивритская новелла начала 20 века. Изд. Открытого университета. Израиль, 2003.
2
Неожиданный Честертон: Рассказы. Эссе. Сказки. Пер. Н. Трауберг. М., Истина и жизнь, 2002. С. 163.
3
А. Ахматова. Муза («Когда я ночью жду ее прихода…»), 1924.
4
Ш.Й. Агнон. По страданью и воздаяние. Соб. соч. в 8 т. Т. 8: Огонь и дрова. Иерусалим — Тель-Авив, изд. Шокена, 1964. С. 14 (перевод мой. — З.К.).
5
Э. Панофски. Idea. Пер. с немецкого Ю.Н. Попова. С.-Пб., Изд. Аксиома, 1999. С. 98. Divino (итал.) — божественный.
6
Литературная энциклопедия. Т. 6, ст. 578.
7
Верю, что у Саади оно было забавнее и изящней, но я переводила с иврита то, что было переложено Цалкой с английского перевода.
8
N. Berdiaev. The Meaning of the Creative Act. (H. Бердяев. Смысл творчества. 1916. Цит. по: Н. Бердяев. Собр. соч. в 5 т. Париж, 1985. Т. 2. С. 205).
9
См. об этом в кн.: В. Ходасевич. Из еврейских поэтов. Изд. Гешарим, М. — Иерусалим, 1998. Шауль Черниховский, один из персонажей рассказа, — одареннейший поэт и переводчик, из зачинателей молодой ивритской литературы, по происхождению российский еврей, служивший земским врачом в южнорусских губерниях, а в Первую мировую войну — врачом в санитарном поезде, за что удостоился военной награды. В 1937 году Черниховский работал врачом школ Тель-Авива. Эти биографические детали так или иначе служат Цалке материалом.