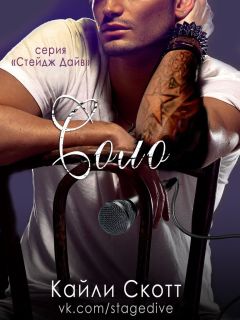Дан Цалка - На пути в Халеб
Когда я вернулся в лагерь, было тепло. Я незаметно разделся в домике, повесил одежду в алый пластмассовый шкаф и вышел на улицу. Неловкость быстро прошла, как и подозрительность, и искушение сравнить себя с другими. Человеческое разнообразие было неисчерпаемо, но во всей этой наготе не было чувственной красоты — не более, чем в прелести ребенка или красе северной сирены. Неправильные пропорции тела, жир, мелкие физические недостатки, шелушащаяся обгорелая кожа, гротескный волосяной покров — никогда еще я не был так далек от венецианской живописи.
Жак сообщил, что и в своих родных городках, дождливых и холодных, эти люди дважды в неделю посещают нудистский бассейн. Я с изумлением посмотрел на него. Чуть позже он пригласил меня вместе сходить за покупками — им не хватает к вечеру томата и кое-каких приправ, и я снова оделся.
— Чем тут занимаются по вечерам? — спросил я.
— Иногда есть кино, иногда лекции о преимуществах естественного образа жизни.
— Лектор тоже голый?
— Не нравится тебе здесь? — спросил Жак.
— Отчего же, нравится. — Но я кривил душой: мне больше нравилось в городе и хотелось в Ла-Рошель.
Когда мы вернулись, Жак указал мне на девушку с севера, которая одиноко играла в мяч.
— Пойди поиграй с ней, — сказал он устало и печально, и беспричинная грусть охватила его с наступлением сумерек, после дневного зноя.
Я уклонился от этой спортивной обязанности. После ужина отдыхающие разбрелись по своим домикам. Остались только детские игрушки: деревянная лошадка, велосипед, лопатки и формочки. У костра какие-то девушки пекли картошку. Двое мужчин бегали трусцой по круглой площадке. С моря донеслась танцевальная музыка. На крыльце одного из домиков сидели муж и жена — или брат и сестра, так они были похожи, — и тихонько переговаривались на идише. Он резал фрукты на деревянной доске. У женщины кожа была оливкового оттенка, а волосы так черны, что казались синими в свете ближайшего костерка.
Запах дыма и горящих листьев, разносившийся от костров, заставил меня повременить со сном. Я пошел в направлении самого большого костра — оттуда слышались звуки гитары и барабана, — но по пути кто-то возник на пороге своего жилья и спросил, не играю ли я в бридж. Сначала я решил, что он тоже говорит на идише, и даже подумал, нет ли здесь, в нудистском лагере, отдельной еврейской улицы, но потом сообразил, что язык был немецкий. Один из четырех постоянных игроков, его партнер по картам, уехал в Бордо к зубному врачу и до сих пор не вернулся, объяснил незнакомец.
— Нам не хватает четвертого, — улыбнулся он.
— Я готов.
Лицо человека осветилось радостью.
Комнату освещали две сильные лампы.
— Четвертый! — провозгласил вошедший.
Двое мужчин и женщина с облегчением улыбнулись.
В два часа ночи они проводили меня к моему дому. Из-за холодноватой седины дюн и моря казалось, что лагерь покрыт инеем. Ветер обнажил костяную белизну припорошенных солью и песком стволов и ветвей.
Два дня спустя я уже был на вокзале в Бордо, после ужина с Жаком в очередном ресторане, тоже отмеченном в его блокноте. Он совал мне в карман деньги: «Бери, пригодится». Ночной поезд был переполнен, даже проходы были заняты, а чемоданы загромождали обе площадки вагона. Я стоял у окна в коридоре и только около двух ночи, по дороге в туалет, заметил, что в одном купе, где ехали солдаты, есть свободное место. Там пахло табаком, тальком и ружейным маслом. Когда я проснулся, в небе уже обозначились первые проблески зари, но сделалось не светлее, а темнее — хлынул дождь. Солдаты опасались, что увольнительная пропадет впустую, но на подъезде к Парижу небо развиднелось.
На этот раз Париж показался мне чужим, как будто я впервые прибыл в незнакомое место. Особые парижские приметы: очертания крыш, решетки, форма окон — не сохранились в памяти и не пробудили никаких чувств. Пешком я дошел до гостиницы. Даже в этот ранний час многие прохожие разговаривали сами с собою. Возможно, люди пожилого возраста всегда говорят что-то себе под нос, подумал я тогда, и слова сами выскакивают изо рта, подобно рычанью зверя.
Я присел под желтым тентом какого-то кафе и попросил кофе. На улице появились две цыганки и начали приставать к прохожим. Одна, толстая, с притороченным к животу ребенком, протягивала руку встречным, другая, молодая и стройная, прытко бежала вдогонку за уходящими людьми. Толстая нередко получала монету, которую тут же прятала в карман, под полу верхней кофты. Молодая была не столь удачлива, хотя не раз успевала выхватить из сборчатой юбки карточную колоду. Кто-то за соседним столиком подозвал официанта. Цыганка обернулась. Мне было ясно, что она подойдет ко мне, если я не перестану ее разглядывать, но я был не в силах отвести глаз от ее пестрого одеяния, от расписной шелковой юбки, запачканного свитера, от ее горящих черных глаз и массивных золотых колец, сгрузивших пальцы.
— Погадать по руке? Погадать на картах? — сказала цыганка. Я кивнул.
Цыганка провела пальцем по линиям моей ладони. Руки ее были красивы и грязны, с узкими гибкими запястьями. Я произнес несколько слов по-цыгански, которые помнил со времен моего детства (рядом с футбольным полем, где мы играли, стояли табором цыгане), из Ожешкова и «Лавенигиро». Она немного испугалась. Возможно, решила, что я из полиции. Я проговорил слов восемьдесят и, как видно, что-то напутал, потому что она принялась хохотать. Еще двенадцать слов. Больше я не помнил ничего.
Она достала потертую замусоленную колоду и раскинула карты на столе. Глядя на меня притворно-наивным взглядом и напустив на себя таинственность, она заговорила о брюнетках и-блондинках, о тех, кто ненавидит, и тех, кто любит, и об одном человеке, который меня не любит и общаться с которым я побаиваюсь, тогда как этот человек спасет меня в час беды, если, конечно, я наберусь смелости постучаться к нему в дверь. Она предрекала мне многочисленные разъезды и восторженное отношение работодателей.
— Человек, который мне поможет, он толстый или тон-кий?
— Толстый или тонкий? — эхом повторила цыганка. И снова раскинула карты. — Я вижу, что он довольно толстый.
Она поправила воротничок моей рубашки, и ее руки, скользнув по моему затылку, наткнулись на замочек коралла. Напевая вполголоса обрывки какой-то мелодии, она несколько раз восторженно проговорила на все лады: коралл, коралл, коралл! Достала из кармана юбки сигарету и сунула в рот. Ее тучная подруга сказала что-то, чтобы привлечь ее внимание, однако моя цыганка не сводила с меня долгого и пристального взгляда и, как видно, прочла в моих глазах одобрение либо усталость, потому что проворно сняла с меня коралл, приложила его, примеряя, к своей груди и вновь залилась по-детски радостным смехом.
Жиннет и Франк собирались отправиться на экскурсию в Шато де ля Бирэд, имение Монтескье. Было уже восьмое сентября, когда я вспомнил об их намерении. Двенадцатого они собирались покинуть Париж. Когда они еще только планировали это путешествие, я оставил у Франка несколько карт и книг, написанных местными историками. Теперь это было прекрасным предлогом, чтобы наведаться к нему и разузнать кое-что о происшедших в Жиннет переменах.
Мне было нелегко прийти на улицу, где он жил, подняться по лестнице и позвонить. Я снова спустился и зашел в кафе напротив сыграть во флиппер и выпить пару стопок кальвадоса. Когда я вновь поднялся к его квартире, было уже довольно поздно. При виде меня на его лице появилась улыбка, которая все расползалась и не могла или не желала исчезнуть, улыбка, означавшая удовлетворение либо злорадство. Я хотел было сказать: «Отчего ты так ненавидишь меня, Франк? Ведь я…»
— Заходи, присаживайся. Кофе хочешь?
— Не беспокойся, — ответил я. — Я пил внизу, в бистро. Я вспомнил, что ты отправляешься в путешествие, и зашел попрощаться и пожелать тебе доброго пути. Если карты и книжки тебе больше не нужны, я бы их забрал.
По сути говоря, я был цыганской крови. Я ждал, что Франк скажет в ответ что-то вроде: «Разве ты с нами не едешь? Мы ведь вместе придумали маршрут».
— Да, книжки, — протянул Франк, — на, возьми. Все равно мы не едем.
— Не едете? Разве Жиннет не писала по разным адресам, что собирается туда приехать?
— Писала? Что ж, поездкой больше, поездкой меньше.
— Маршрут был намечен хороший, — промямлил я.
— Всякий намеченный план хорош, — ответил Франк. — Ты-то как?
Во взгляде Франка читалось, как я выгляжу. Я был небрит — из-за того, что по возвращении из Бордо легкое раздражение высыпало на коже, крылья носа были воспалены и красны, кожа под бровями шелушилась, мой черный свитер был в чистке, поэтому я надел белый, с дырами на локтях и еще в нескольких местах. Глаза покраснели от недосыпания.
— Я в полном порядке.